
Художественной столицей Франции, да и всей Европы, в 1600-е годы был Рим. Сюда приезжали со всего континента – кто на годы, кто на десятилетия, а кто и на всю жизнь.
Сперва целью путешествий было научиться у итальянских мастеров искусству передачи движения человеческого тела. Но в начале XVII века произошло неожиданное: в Италии пейзаж стал обретать права самостоятельного жанра, и вскоре мода на него охватила Европу.
Из римлян публика вспоминает сегодня, прежде всего, французов Николя Пуссена и Клода Лоррена, с их пристрастием к эпическому (или героическому) пейзажу в первом случае, и лирическому во втором. Фламандские или немецкие коллеги остаются в тени двух мегазвезд. Хотя выставка «Природа и идеал» в парижском Гран-пале (с конца июня до 28 сентября 2011 г. ее покажут в мадридском Прадо) напоминает, что искусство не знает историй без родства, что здесь трудно чему-то прекрасному появиться из ничего, из ниоткуда – тем более, когда речь о пейзаже, переживавшем в Риме начала XVI века расцвет. Уже в античном искусстве мы видим немало примеров этого жанра, а с XIV века природу стали повсеместно инкорпорировать в картины с библейскими сюжетами. Наверняка бы рисовали и отдельно, но крупнейшим заказчиком искусства долгое время оставалась церковь, а ей «просто пейзажи» были ни к чему. С другой стороны, нельзя же свести историю живописи к деньгам (хотя и без них в этой истории никуда) и сделать вид, что лишь наплыв английских путешественников в «вечный город» сподвиг Лоррена на занятие пейзажами, и что это более важно, чем введенная Лорреном практика рисования этюдов красками на пленэре.
 |
Nicolas Poussin (1594-1665) Nymphe et Satyres, huile sur toile, 1627. © The National Gallery, Londres, Dist. Service presse Rmn-Grand Palais /National Gallery Photography
Не в силах дождаться изобретения фотографии, англичане скупали виды Рима и его окрестностей, видя в них сувениры на память – дорогие, но точные. Но насколько реалистичными были эти пейзажи? Разглядывая 80 картин и 30 рисунков, расположенных в хронологическом порядке, понимаешь, что о точности никто из авторов не думал. С таким же успехом и «Грозу» Джорджоне, и виды на горы и моря, открывающиеся у фламандцев из окон в сценах с Мадонной, можно воспринять изображениями конкретного места. Но в эпоху Паскаля и художник должен был следовать принципу: жить следует так, словно Бог существует, даже если твердой уверенности в этом нет. Пейзажи оказывались попыткой обнаружить связь между прошлым опытом человечества, с его развитой иерархией мифов, и настоящим, когда развитие мысли и знания опережало возможности европейцев быстро адаптироваться к новому взгляду на мир. Поэтому допускалось совмещение деталей из разных пространств: руины были то натуральными, то вымышленными. Человек сначала решал, что он увидит (или что он сможет увидеть), а затем искал вокруг подтверждения своей идее.
Представления Пуссена и Лоррена о композиции и сочетании цветов долгие годы служили образцом для публики и живописцев, воспринимавших Италию райскими кущами, где остатки античной утопии о золотом веке человечества могут вернуть гармонию в отношения между природой и культурой. Так ностальгия сформировала ландшафт современности.
Революцию, случившуюся в искусстве XVII века, трудно переоценить. Природа стала соперничать с Библией, а библейские сюжеты постепенно перестали быть главными. «Природа и идеал» открывается работами болонца Аннибале Каррачи, фламандца Пауля Бриля и немца Адама Эльсхаймера (1578-1610). Все они приехали в Рим, чтобы работать здесь и умереть вдали от родных мест. Смешение культур дало поразительные результаты. Бриль, например, заселял ландшафты римского Форума фигурами не самых богатых современников – вполне в духе Питера Брейгеля. Судя по обилию повторов картин из жизни простого люда на фоне античных руин, те пользовались успехом у заказчиков. Это было новинкой для римской школы, в отличие от его совместного полотна с Рубенсом, запечатлевшего Психею в скалах с орлом-Юпитером, пьющим из кубка в ее руке.
 |
Claude Lorrain (vers 1600 – 1682) Paysage avec l’embarquement de sainte Paule à Ostie. Paysage avec l’embarquement de sainte Paule à Ostie © Museo Nacional del Prado, Madrid
В то же время Эльсхаймер оставался верен библейским мотивам – в Париже показали, в частности, его «Три Марии у гроба» из бывшей коллекции Пауля Бриля (ныне Рейнский музей в Бонне). Но по сути его больше интересовали загадки света, чем христианские тексты. С точки зрения влияния на живопись XVII века Эльсхаймер оказывается в одном ряду с Караваджо. В немецком барокко нет равного ему по значению, его картины завораживали современников, им подражали Рембрандт и Рубенс, а количество фальшивок или выполненных под него работ - едва ли не главный показатель успеха у публики - поражает.
С годами наследие Эльсхаймера только сокращается. Еще Генрих Вайцзекер, издавший в 1938 году первую монографию о художнике, приписывает его кисти 60 полотен. Позднее исследователи сократили это число до 40 картин и 30 рисунков и гуашей.
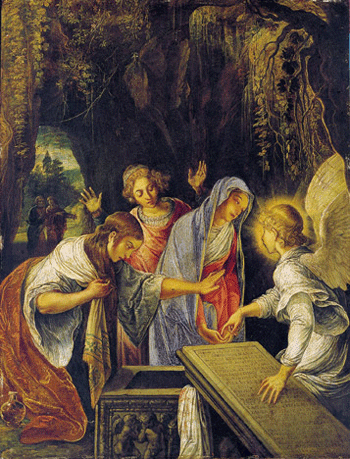 |
Adam Elsheimer Die drei Marien am Grab Ca. 1603. © Bonn, Rheinisches Landesmuseum
Живописи он учился у франкфуртского художника Филиппа Уфенбаха, ценившего, в свою очередь, Дюрера. В возрасте 20 лет Эльсхаймер навсегда покидает Германию. После недолгой работы с Хансом Ротенхамером в Венеции он прибывает в Рим. Его пристрастия определили Тициан, Веронезе и Тинторетто, прежде всего предпочтением сине-желто-красной цветовой гаммы. В Риме он дружит с Рубенсом (тот был лишь на год его старше), а также с будущим учителем Рембрандта Питером Ластманом, создает работы в духе «поэтической живописи», многое предвосхитившую в эстетике романтизма, и удивляет коллег (в 1606 году художник вступает в профессиональную гильдию, Академию св. Луки). Те писали, что он diavolo per glie cose picole – «чертовски хорош в малых вещах». Эльсхаймер предпочитал малый формат, в котором обнаружил неизвестные до той поры возможности. Он видел в библейских сюжетах универсальная модель мира, вдохновлялся «Метаморфозами» Овидия (среди привезенного в Гран-пале и вдохновленная Овидием «Издевающаяся Церера» из Прадо), испытывал интерес и к Млечному пути, и к жизни эвкалипта, рисуя все это на меди, и был несравненен, на взгляд Рубенса, в ландшафтах. Ими восхищались и миниатюристы, и авторы голландской школы пейзажа, и Клод Лоррен, на чье понимание пространства Эльсхаймер повлиял больше других.
 |
Adam Elsheimer (1578-1610). Bonn, Rheinisches Landesmuseum
Ранняя смерть автора, как часто бывает в искусстве, способствовала появлению легенды вокруг его имени. В ХХ веке по-своему сложную жизнь Эльсхаймеру обеспечили трудности при воспроизведении его работ, темных по колориту, наполненных той сложной игрой теней, что нелегко различить и при «живом» разглядывании, не говоря уже о репродукциях.
Несмотря на любовь к Овидию, разделяемую Эльсхаймером с веком, в нем нет той литературности раннего Пуссена, которая кажется источником сухости и безжизненности у великого классициста. То ли дело поздний Пуссен, где логическая работа над идеальным пейзажем заменяется живым чувством, фигуры полны грации и энергии, а природа не выглядит приложением к теории, хотя еще и не оказывается тем зеркалом человеческой души, которое позднее увидели в ней романтики.
Пуссен был первым французским художником, достигшим международной известности. Он обязан этим Риму, где Пуссен и Лоррен стали в глазах коллекционеров образцовыми итальянскими авторами. Но что именно ценили заказчики? Лорреном увлекались англичане, относившиеся к его картинам, с их особой передачей атмосферных явлений, как к идеальным сувенирам из обязательного путешествия на Апеннины.
В Лувре сейчас открыта выставка «Клод Ле Лоррен, рисовальщик лицом к природе» (до 18 июля; затем в музее Тейлера в голландском Харлеме). Вот где автономность пейзажа достигает своего апофеоза, пусть это даже не конкретный, но идеальный пейзаж Кампании. Вот где спонтанность оказывается важнейшей характеристикой, актуальной для пейзажа и столетия спустя, даже у импрессионистов! В графике исчезает та театральность, которая, согласно Полю Валерии, присутствует во французском пейзаже до XIX века. Но, хотя Лоррен был первым «чистым пейзажистом», соседство с современниками, как и в Гран-пале, лишний раз напоминает о железном единстве эпохе. Не зря многие работы последовательно приписывались многим авторам. Так, выставленный на Елисейских полях «Вид с деревьями» из марсельского музея изящных искусств (ок. 1640; в Мадриде показан не будет) урожденного римлянина Гаспара Дюге (1615 – 1675) из-за своего качества считался выполненным его учителем Пуссеном. До конца не ясно, писался ли он на пленэре или уже реконструировался по памяти в ателье.
Пейзажи, появившиеся в Риме в начале XVII века, выглядят последовательной и одновременно отчаянной попыткой сохранить идеальный облик цивилизации, понимаемой как единство мифа, истории и природы.
 |
Wals Goffredo, Country Road by a House, c. 1619-1620. Fitzwilliam Museum, Cambridge
Три столетия спустя, в статье «Три картины о вине», Ортега-и-Гассет заметил, что, «будучи творением человеческого гения, она [цивилизация. – А.М.] оказалась его ошибкой, стала дорогой, ведущей в никуда. Природа совершеннее культуры, или, другими словами, зверь ближе к богу, чем человек». ХХ век легко подтвердил правоту испанца, потратив на это гораздо меньше сил, чем в свое время ушло на создание мифологии пейзажа.