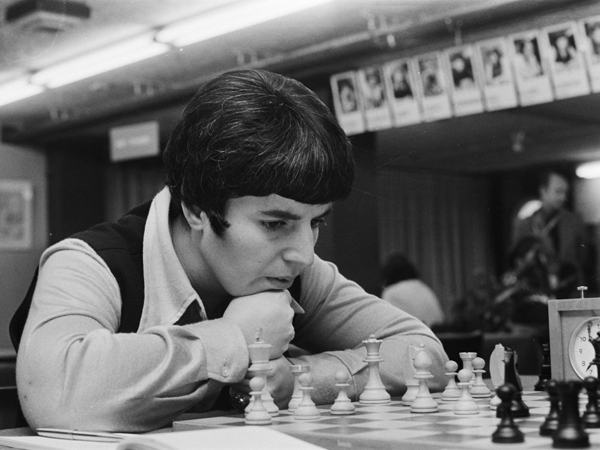26 (14) октября 1842 года родился художник Василий Верещагин.
Личное дело
Василий Васильевич Верещагин (1842 – 1904) родился в Череповце, в дворянской семье. Получив начальное образование дома, был отдан родителями в Александровский малолетний кадетский корпус. Учился усердно и в 1853 году был переведен в Петербургский морской кадетский корпус. Во время учебных плаваний на фрегате «Камчатка» и других кораблях Верещагин посетил Данию, Францию и Англию. Учебу он закончил с отличием (был первым среди своего курса), но тут же подал прошение об отставке, наотрез отказавшись от карьеры морского офицера. Еще кадетом Василий Верещагин начал посещать занятия в Рисовальной школе петербургского Общества поощрения художеств. Живопись его увлекла, а преподаватели отметили его дарование. В результате юноша выбрал профессию художника.
Отец был разгневан этим поступком и отказался помогать сыну деньгами. Но юношу не напугали трудности. В 1860 году он поступил в Академию художеств, где работал под руководством А. Т. Маркова и А. Е. Бейдемана. В 1863 году получил малую серебряную медаль за картину «Избиение женихов Пенелопы возвратившимся Улиссом» и похвалу академии за композицию. Однако скоро он уничтожил картину и покинул Академию. Художник отправился на Кавказ, чтобы «на свободе и просторе на интересных предметах учиться». Сделал много рисунков с изображениями народных типов, бытовых сцен и пейзажей Кавказа.
Василий Васильевич решил углубить свое художественное образование и отправился в Парижскую академию художеств, где занимался в мастерской Жана Жерома. В 1867 году по приглашению туркестанского генерал-губернатора Кауфмана Верещагин едет в Туркестан, где постоянно происходят военные действия. Приехав в Самарканд после взятия его русскими войсками 2 мая 1868 года, Верещагин получил боевое крещение, выдержав с горстью русских воинов тяжелую осаду этого города войсками бухарского эмира. За проявленную при обороне храбрость он был удостоен Военного ордена Святого Георгия четвертой степени.
Вернувшись в Петербург, Верещагин принял участие в академической «Туркестанской выставке». Помимо его картин и рисунков там были представлены зоологическая и геологическая коллекции, собранные в Туркестане русскими учеными. Чтобы завершить «Туркестанскую серию», Верещагин вновь решил отправиться в Среднюю Азию. Летом 1869 года он путешествовал по Семиреченскому краю и вдоль границы с Китаем, участвовал в военной вылазке в Кульджинское ханство. С китайской границы возвратился в Ташкент и уехал в Петербург в конце 1870 года. Из второй поездки художник привез примерно 70 рисунков и свыше 80 этюдов маслом.
Не задерживаясь в Петербурге, Верещагин направляется в Мюнхен, где в течение трех лет (1871-1873) напряженно работает над картинами «Туркестанской серии», которые потом сделают его знаменитым. Помимо картин, посвященных войне, Верещагин создал целый ряд жанровых полотен: «Богатый киргизский охотник с соколом», «Продажа ребенка-невольника», «Самаркандский зиндан (подземная тюрьма)», «Опиумоеды», «Нищие в Самарканде», «Мулла Рахим и мулла Керим по дороге на базар ссорятся», «Узбекская женщина в Ташкенте». Самым знаменитым из этих произведений стала картина «Двери Тамерлана».
Первая выставка картин «Туркестанской серии» состоялась в Лондоне, в Хрустальном дворце. Весной 1874 года Верещагин устроил выставку в Петербурге. Желая сделать ее доступной, художник установил бесплатный вход на выставку в течение нескольких дней в неделю. Каталог экспозиции стоил пять копеек. Экспозиция опять имела огромный успех, вызвала оживленные отклики, в Петербурге было продано тридцать тысяч каталогов. И. H. Крамской писал о выставке: «Все вещи высокого художественного уровня. Я не знаю, есть ли в настоящее время художник, ему равный не только у нас, но и за границей. Это нечто удивительное». Правительство не стало покупать картины Верещагина, но почти всю коллекцию купил Третьяков.
Не дожидаясь окончания выставки, художник уехал в Индию, где провел два года, посетив также Тибет. Среди его индийских работ: «Буддийский храм в Дарджилинге», «Ледник на дороге из Кашмира в Ладак», «Мавзолей Тадж-Махал в Агре», «Гробница шейха Селима Чишти в Фатехпур-Сикри», «Моти Масджид («Жемчужная мечеть») в Агре». Верещагин задумал большой цикл картин, посвященный истории захвата Индии британцами. Однако он успел закончить лишь несколько картин, например, «Процессию английских и туземных властей в Джейпуре».
В конце марта - начале апреля 1876 года Верещагин вернулся в Париж, где устроил свою мастерскую. Получив известие о начале русско-турецкой войны, он немедленно отправился на фронт. Верещагина причислили к составу адъютантов главнокомандующего Дунайской армией с правом свободного передвижения по войскам, но без казенного содержания.
Верещагин не ограничивается наблюдениями из Главной квартиры, но и совершает с войсками поход до Дуная, а затем вместе с товарищем своим по курсу Морского кадетского корпуса лейтенантом Н. Л. Скрыдловым участвует на лодке «Шутка» в атаке на турецкий монитор. Оправившись от раны, полученной в этом деле, Верещагин поспешил к Плевне, которую тогда штурмовали русские войска, оттуда со Скобелевым – к Шипке и с отрядом генерала Струкова – в к Андрианополю. После окончания боевых действий Верещагин, отказавшись от золотой шпаги, которой его хотело наградить командование, уезжает в Париж работать на картинами. В 1880 и 1883 годах эта серия была выставлена в Петербурге.
В 1882-1883 годах он снова путешествовал по Индии, так как материалы, собранные в результате первой поездки, показались ему недостаточными. Затем художник продолжил жить в Париже, время от времени отправляясь в путешествия. В 1884 году он поехал в Сирию и Палестину. Так возникает «Палестинская серия», состоящая как из этюдов и картин этнографического характера («Стена Соломона», «В Иерусалиме. Царские гробницы»), так и из картин на евангельские сюжеты («Святое Семейство», «Воскресение Христово»).
В дальнейшем Верещагин совершил еще ряд поездок. В 1888 – 1889 и 1902 годах он побывал в США, в 1901 – на Филиппинах, в 1902 – на Кубе.
В 1890 – 1891 годах художник возвратился в Россию. На окраине Москвы он построил дом с мастерской и поселился в нем. Много путешествовал по стране. С 1887 по 1901 год Верещагин работал над серией картин, посвященных Отечественной войне 1812 года.
В 1903 году, благодаря содействию барона Розена, российского посла в Японии, Верещагину удалось побывать в этой стране. Он сделал немало зарисовок местных достопримечательностей, памятников архитектуры, пейзажей, портретов. Но отношения между Россией и Японией накалялись, и посольские чиновники рекомендовали Верещагину покинуть страну. О нападении японцев на Порт-Артур он узнал уже в дороге. Добравшись до столицы, Верещагин поспешил получить разрешение на поездку в действующую армию. В Порт-Артуре он посещал оборонительные позиции, выходил в море на сторожевых кораблях и делал наброски к будущим картинам.
Василий Верещагин погиб 31 марта 1904 года. Он вместе с адмиралом Макаровым находился на мостике броненосца «Петропавловск», когда тот, выйдя на внешний рейд Порт-Артура, подорвался на мине и затонул.
Чем знаменит

Наибольшую известность художнику принесли картины, изображающие войну. Большинство из них относится к трем серия, посвященным военным действиям в Средней Азии, русско-турецкой войне 1877 – 1878 годов и отечественной войне 1812 года. О работах Верещагина писали: «Нет в его картинах ни победно шумящих знамен, ни сверкающих штыков, ни блестящих эскадронов, несущихся на пылающие огнем батареи, не видно торжественных шествий, поднесения трофеев, ключей и пр. Вся та парадная, увлекательная обстановка, которую человечество измыслило для прикрытия пагубнейшего из своих деяний, чужда кисти г. Верещагина; перед вами голая действительность». Но официальным военным кругам такое изображение войны понравиться не могло. После первой, «туркестанской», выставки император лично высказал свое неудовольствие картиной «Забытый». Художника обвиняли в непатриотичности и «оклеветании русской армии». Цензура запретила издание репродукций картин Верещагина. Тяжело переживая несправедливые обвинения, Верещагин в состоянии нервного припадка уничтожил три картины: «Забытый», «У крепостной стены. Вошли!», «Окружили – преследуют...».
История повторилась после русско-турецкой войны. Художника обвиняли в том, что он якобы выражает в своих произведениях «турецкую точку зрения», сочувствует турецкой армии, умышленно дискредитирует русское войско. Высказывались предложения лишить художника георгиевского креста. Полемика вокруг картин Верещагина шла не только в печати, они активно обсуждались в домах, в клубах, в театрах во время антрактов и даже прямо на улицах. Его картины повлияли на зарождавшееся международное антивоенное движение.
Верещагин часто объединял свои картины в серии, имеющие законченный сюжет. Одна из серий, посвященная обороне Самарканда состояла из картин: «У крепостной стены. Пусть войдут!», «У крепостной стены. Вошли!», «Смертельно раненный» и «Забытый». Оборона Шипки представлена циклом: «Землянки на Шипке», «Батареи на Шипке», «На Шипке все спокойно», «Шипка-Шейново». Среди картин о войне 1812 года выделяются циклы о пребывании французской армии в Москве, бегстве французов из России, партизанской войне.
О чем надо знать
Противоположные оценки творчества Верещанина высказывались и после смерти художника. Невысоко оценивал его талант Александр Бенуа, который писал: «Разумеется, картины Верещагина обозначали шаг вперед в смысле солнца, света и воздуха, но обозначали, скорее, какой-то научный, а не художественный шаг вперед. Так же точно успехи красочной фотографии нельзя было бы обсуждать в истории живописи. Верещагин, как исследователь, ученый, этнограф, путешественник, репортер, имеет большое значение. Но так же, как нельзя назвать Ливингстона или Пржевальского поэтами, хотя бы их описания были бы сделаны с величайшей точностью, так точно и Верещагина нельзя считать истинным художником за то, что он высмотрел с громадным трудом и упорством, под всеми широтами света более верные, нежели у своих предшественников, краски. Из обозрения его картин видно, что эти открытые им новые краски не радовали его своей прелестью, не восхищали его, что он всегда и всюду оставался тем же холодным исследователем, если чем любующимся, то только самим собой, своим усердием, своей неустрашимостью и неутомимостью. Нельзя даже сказать, что его этюды Индии и Средней Азии, очень верные и точные, яркие и светлые, имели бы влияние на развитие русской пейзажной живописи. Для этого они были слишком чужды настоящим художникам, они были для них столь же поучительны, как анатомические атласы, гербарии или фотографии. В них отсутствуют нерв, трепет, восторг: это сухие географические и этнографические документы. Так же точно и батальные картины Верещагина. Они трагичны тем, что в них рассказано, но не тем, как это рассказано. Заслуга Верещагина перед человечеством, как повествователя, очень верного и остроумного, проницательного и сведущего о таком важном деле, как война, огромна, но заслуга этого храброго, до безумия неустрашимого репортера, этого холодного, бездушного и бессердечного протоколиста, никогда не проникавшего в самую глубь явлений и даже не подозревавшего о существовании такой глубины, заслуга его перед искусством, стремящимся как раз найти в загадочной значительности форм разгадку высших тайн, равняется нулю. Верещагин не был никогда художником, но вся его неутомимая, бескорыстная, беззаветно преданная науке и "видимой правде" личность не лишена известной грандиозности и принадлежит к самому значительному и достойному, что в этом роде дала Россия».
Прямая речь
«Я всю жизнь любил солнце и хотел писать солнце. И после того, как пришлось изведать войну и сказать о ней свое слово, я обрадовался, что вновь могу посвятить себя солнцу. Но фурия войны вновь и вновь преследует меня».
«Передо мною, как перед художником, война, и я ее бью, сколько у меня есть сил; сильны ли, действенны ли мои удары – это другой вопрос, вопрос моего таланта, но я бью с размаху и без пощады».
«Одни распространяют идею мира своим увлекательным словом, другие выставляют в ее защиту разные аргументы — религиозные, политические, экономические, а я проповедую то же посредством красок».
«Выполнить цель, которой я задался – дать обществу картину настоящей неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека, а нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, болезни, раны. Нужно не бояться жертвовать своей кровью, своим мясом, иначе картины мои будут не то».
В. В. Верещагин
Плачь и молись, отчизна-мать!
Молись! Стенания детей,
Погибших за тебя среди глухих степей,
Вспомянyтся чрез много лет,
В день грозных бед...
Всеволод Гаршин «На первой выставке картин Верещагина»
«Весь мир содрогнулся при вести о трагической гибели В. Верещагина, и друзья мира с сердечной болью говорят: "ушел в могилу один из самых горячих поборников идеи мира". Макарова оплакивает вся Россия; Верещагина оплакивает весь мир». Санкт-Петербургские ведомости, 1904. № 94. 8 апреля.
«Мы, пацифисты, с глубочайшей скорбью оплакиваем смерть миролюбивого художника Верещагина. Так же, как и Толстой, который ведет пропаганду мира силой слова, наш Верещагин кистью старался показать людям, что война – самая ужасная, самая нелепая вещь на свете. <…> И когда разразилась японо-русская война, именно с этой целью он направился на поле брани. Он был гостем адмирала Макарова на флагманском корабле, и тут его неожиданно настигла беда. Но как величественна его смерть! Он не искал военных наград, он хотел показать людям трагедию и глупость войны, и сам пал ее жертвой. Он пожертвовал своей жизнью ради призвания». Кайдзан Накадзато, японский писатель, статья в газете «Хэймин симбун».
10 фактов о Василии Верещагине
Материалы о Василии Верещагине
Статья о Василии Верещагине в Википедии
Василий Верещагин (материалы и публикации)
Произведения Верещагина в «Библиотеке Мошкова»
Кожевникова И. Верещагин и Япония//Проблемы Дальнего Востока. – 1987. – №1