Нобелевская премия получила всемирное признание. Глобальный статус, пока не оспоренный никакой другой премией, делает ее уникальной (авторитетность этого изобретения Нобеля не отрицали даже склонные к изоляционизму тоталитарные режимы). За 113 лет [1] ее существования не произошло или, во всяком случае, не накопилось угрожающей престижу премии критической массы ошибок. Хотя процедура отбора и критерии, которыми руководствуется Нобелевский комитет, постоянно подвергаются сомнению и далеки от прозрачности, но даже критики премии не предложили альтернативного проекта, способного с ней сравниться. И поскольку звание лауреата до сих пор не девальвировано, мы будем придерживаться мнения, что ими действительно как правило становятся выдающиеся ученые, писатели и общественные деятели.
Неудивительно, что совокупность лауреатов премии, сложившаяся за более чем вековую историю ее присуждения — эта уникальная и супер-элитная выборка, — неоднократно становилась предметом изучения. Ее анализ обещал обосновать гипотезы о факторах, влияющих на достижение выдающегося успеха, конструировался портрет идеального ученого. Так, например, Раймонд Кэттелл доказывал, что творческие люди — это независимые личности, яркие индивидуальности с выраженной интроверсией (термин, введенный К. Юнгом в 1910 и означающий дословно «обращенность внутрь») [2]. Свое объяснение выдающихся способностей нобеляров дала Лариса Шавинина. По ее мнению, в их основе — экстракогнитивность: особые эмоции, убеждения, интуитивные процессы [3]. Делались также попытки изучения и социально-культурной среды, в которой происходило становление будущих лауреатов (Л. Мулен, Х. Цукерман [4]). Попыткой комплексного анализа стала работа Колина Бэрри, в которой исследовалось влияние национального, регионального, семейного факторов на движение к Нобелевской премии [5].
Однако фактически не изученным остался вопрос о взаимоотношении лауреатов — ученых, писателей, общественных деятелей — с репрессивными институтами. А между тем, мифология творчества и познания мира (Прометей, Адам), как и ранние страницы истории науки (Галилей, Коперник, Бруно) отсылают нас к этой теме. Впрочем, в какой-то мере логично, что именно исследователю из «Мемориала» пришла в голову эта идея [6]: узнать, скольким обладателям премии пришлось побывать в неволе (кстати, импульсом могло послужить двукратное номинирование «Мемориала» на Нобелевскую премию, как утверждают эксперты, в будущем году ожидается новое выдвижение).
Основными источниками послужили официальные биографии и автобиографии, публикуемые Нобелевским комитетом. Были изучены биографии всех 617 нобеляров — представителей 67-ми стран мира с 1901 по 2007 годы.
Предлагаем вниманию читателей первые результаты.
Преследованиям со стороны государственных репрессивных органов подверглись 38 нобелевских лауреатов [7] из двадцати стран. Среди них шестеро стали объектами политических преследований уже в звании лауреата. Еще шесть человек становились политическими заключенными неоднократно — как до, так и после получения премии. Большинство (остальные 26) подверглись репрессиям до ее присуждения.
Среди санкций, применявшихся властями, представлены: тюремное заключение, помещение в концентрационные и трудовые лагеря, домашний арест, ссылка и интернирование. Отметим здесь, что авторы биографий и автобиографий использовали эти термины нестрого, поэтому первые результаты классификации по видам наказаний носят сугубо предварительный характер.
Репрессии не обошли ни одну из номинаций премии (физика, химия, физиология и медицина, экономика, литература, премия мира, см. диаграмму). Больше всего тех, кто подвергся преследованиям, - среди лауреатов Нобелевской премии мира. На втором месте — лауреаты по литературе. Меньше всего политзаключенных оказалось среди победителей в экономической номинации.
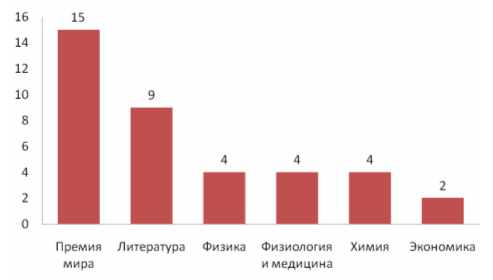
Люди, которым было суждено стать избранниками Нобелевского комитета, теряли свободу и даже смотрели на мир сквозь решетку или колючую проволоку в 17 странах Европы, Азии, Африки и Америки, но самые большие «контингенты» политзаключенных-нобеляров собрали государства, где господствовали тоталитарные режимы, — Германия и СССР. В силу широкого применения во время Первой и Второй мировых войн практики интернирования к этим странам примкнула и Великобритания.
Наиболее распространенным видом преследований оказалось тюремное заключение (38% от всех фактов репрессий). Максимальное число тех, кто отбыл тюремные сроки, пришлось на Германию. Весьма широко применялись помещение в концентрационный лагерь и интернирование. В концлагерях нобелевский «спецконтингент» содержался на территории Германии, Норвегии и Франции. Половина же всех интернированных лиц пришлась на Великобританию. В свою очередь, у СССР печальный «рекорд» по помещению в трудовые лагеря. Страну Советов и ЮАР объединило применение такой формы преследования, как ссылка.
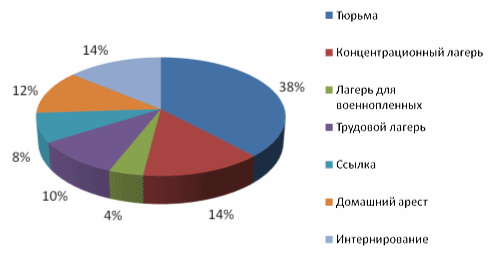
Средняя продолжительность срока пребывания в неволе оказалась самой высокой в ЮАР — 9 лет. В Бирме, КНР и Южной Корее она составила шесть лет. В странах–«лидерах» по количеству лауреатов-политзаключенных — СССР и Германии — пять и два года соответственно. В Великобритании — 1 год.
Если суммировать все сроки обладателей Нобелевской премии по странам, то максимальные показатели совокупной продолжительности лишения или ограничения свободы: 22 года — в СССР и 21 год — в Германии.
Если говорить о нобелярах, подвергшихся наиболее продолжительным преследованиям, то в неволе дольше всех довелось пробыть А.И. Солженицыну. Писатель содержался в лагерях и в спецтюрьме-«шарашке» (1945–1953), затем его этапировали в «вечную» ссылку (1953–1956), в 1974, когда он был уже лауреатом премии, последовал новый арест и, к счастью, кратковременное заключение в СИЗО КГБ «Лефортово» перед высылкой из страны [8]. «Первое место» по интенсивности доставшихся на его долю мытарств занял южно-африканский общественный деятель Альберт Лутули (премия мира, 1960). Он дважды отбыл тюремное заключение в 1948, 1956–1957, ссылку в 1954–1956, домашний арест в 1959–1964.
Хронологически пики преследований пришлись на ХХ век. Первый, хотя и гораздо менее выраженный — на 10-е годы XX века, второй — на 40-е годы. После второго пика отчетливо просматривается тенденция к снижению интенсивности репрессий в отношении нобелевских лауреатов.
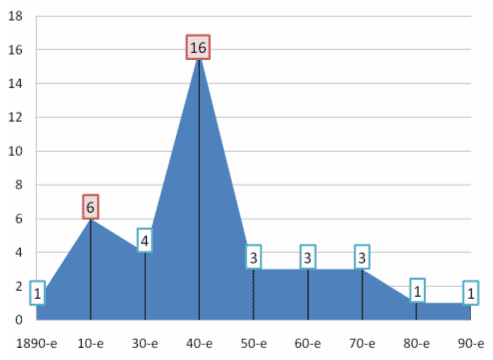
Учитывая периоды всплесков репрессий, а также показатели общей продолжительности нахождения в неволе и количества нобеляров, лишенных свободы, с определенной долей уверенности можно говорить о корреляции между интенсивностью преследований и политическими системами тех стран, где это происходило. Бесславный «рейтинг» этих государств ожидаемо возглавили два тоталитарных режима — в СССР и в нацистской Германии. Им аккомпанировали мировые войны, провоцировавшие ужесточение внутренней политики и в государствах, где нравы обычно не столь суровы.
Отдельно следует остановиться на лауреатах-политзаключенных из нашей страны. Из 22 наших соотечественников, получивших Нобелевскую премию, репрессиям подверглись четверо: Лев Ландау (физика), Иосиф Бродский, Александр Солженицын (оба по литературе) и Андрей Сахаров (премия мира) — все в советский период. В нашей стране отбывали свои сроки и иностранные лауреаты премии. Так, во время Первой мировой войны в лагерь для военнопленных на территории Российской империи попал австрийский врач Роберт Барани (премия по физиологии и гигиене, 1914). А Менахем Бегин родился в Брест-Литовске и, если так можно выразиться, стал иностранцем для России. Будущий премьер-министр Израиля (премия мира, 1978) находился в заключении в тюрьме и трудовом лагере в СССР в 1941–1942 гг. Разумеется, нельзя не назвать поэта, которого власти заставили отказаться от Нобелевской премии и подвергли травле, — Бориса Леонидовича Пастернака. Его «дело» по формальным критериям не может быть включено в наши выкладки, но описание репрессивного фона советской Нобелианы без него не кажется нам полным.
Мы представили самые первые итоги нашего исследования, которые пока еще не слишком прозрачны для интерпретаций. Кроме пожалуй, одного: присутствие людей, не понаслышке узнавших неволю, в элитном клубе нобелевских лауреатов, подчеркнем, во всех номинациях и практически на всем протяжении существования премии, явно не случайно, и на наш взгляд, нуждается в дальнейшем изучении. Хотя бы как свидетельство того, что в ХХ веке творческим людям (или, может быть, следует говорить о людях с творческими задатками, т.е. со склонностью к самовыражению?) было не очень просто жить. И даже опасно, если они вели себя как общественные деятели или вольно или невольно влияли на общество. Не об этом ли говорит бесспорное лидерство двух номинаций: премии мира (15 человек) и премии по литературе (9)?
Обращает на себя внимание характер преследований, из арсенала мер воздействия самыми «востребованными» оказались тюрьма и лагерь. «Мягкие» формы репрессий, такие как домашний арест или ссылка, применялись заметно реже.
Служила ли Нобелевская премия защитой? Как мы теперь видим, не всегда. Но отметим, что ни один из тех, кто подвергся преследованиям после присуждения премии, не был казнен (если говорить о советском опыте, то власти даже не решились судить лауреатов: А.И. Солженицына и А.Д. Сахарова высылали и интернировали не на основании решений суда, репрессивные меры были оформлены специальными секретными указами Президиума Верховного Совета СССР). Однако абсолютной гарантией от ареста по политическим мотивам премия, увы, не стала.
К счастью, во второй половине XX века количество политзаключенных среди тех, на кого пал выбор Нобелевского комитета, пошло на убыль, и, будем надеяться, в XXI веке сочетание «лауреат Нобелевской премии и политзаключенный» вовсе выйдет из моды и навсегда станет достоянием историков. У премии есть свой музей — Nobelmuseum. Если коллеги из Nobelmuseum сочтут эту тему достойной внимания и отражения в экспозиции, то «Мемориал» готов оказать им содействие.
* — подвергавшиеся преследованиям как до, так и после получения Премии;
** — преследовавшиеся после присуждения Премии
Примечания
[1] Статья была написана до октября 2008, поэтому результаты присуждения премии в этом году в ней не учитывались.
[2] Cattell R.B. The Personality and Motivation of the Researcher from Measurements of Contemporaries and from Biography // Scientific Creativity: Its Recognition and Development. — New York: Wiley, 1963.
[3] Shavinina L. Explaining high abilities of Nobel laureates // High Ability Studies. — 2004. — Vol. 15, No. 2 (Dec.). — PP. 243-254.
[4] Moulin L. The Nobel Prizes for the Sciences from 1901–1950 — An Essay in Sociological Analysis // British Journal of Sociology. — 1955. — No. 6. — PP. 246-263; Zuckerman H. Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States. — New York: Free Press, 1977.
[5] Berry C. The Nobel Scientists and the Origins of Scientific Achievement // The British Journal of Sociology. — 1981. — Vol. 32, No. 3 (Sept.). — PP. 381-391.
[6] Благодарим за нее В. Морозова.
[7] Список приведен в приложении.
[8] Еще одна форма репрессий, но мы только укажем на нее в этой публикации, а подробное рассмотрение оставим на будущее.