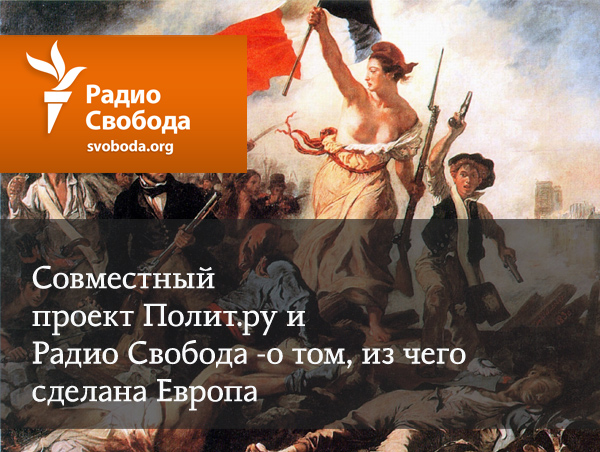
Два заголовка в русском интернете привлекли мое внимание в последний месяц; оба бросились в глаза, когда я лениво разворачивал бесконечную фейсбучную ленту. Два совершенно разных, с разной стилистикой, задачами, даже, пожалуй, исходными политическими позициями – но об одном.
Первый украшал публикацию отрывка из книги одного американского советолога и журналиста, специалиста по русской истории и современности. В его сочинении речь шла об исторической памяти, о том, что население России избегает тем, связанных с большевистским и сталинским террором, о том, как выборочная память формируют общественный ландшафт в стране. Тема важная, слов нет; дискуссии об этом ведутся постоянно – как на публицистическом, там и на академическом уровне.
Но зацепило мое внимание другое – сочиненный журналистом этого издания заголовок к статье: «Нация, не признающая вины» (книга, конечно же, называется совсем по-иному). Отлично помню, как я, пролистнув сначала фейсбучную ленту вниз, потом специально вернулся: вдруг показалось? Нет, правда. Все так. Нация, не признающая вины.
Попробуем проанализировать этот заголовок, точнее – ситуацию, им предполагаемую. Перед нами разыгрывается либо следствие, либо суд. В качестве обвиняемого – целая нация, представляющая собой единое коллективное тело. Она безусловно виновна, целиком, вся, до каждого своего представителя, вне зависимости от его возраста; более того, те, кто будет принадлежать к ней в будущем, неродившиеся еще, зачатые и не зачатые – виновны. И – надо же! – не признают своей вины.
Кем же, рассуждая логически, является автор статьи, настаивающий на виновности нации? Чью роль он примерил на себя? Если мы на допросе, то это следователь; какого рода ведется допрос – с пристрастием или вполне интеллигентно – сказать здесь невозможно. Дыба и испанский сапог предполагают в нашем заголовке интонацию яростную: «Нация не признающая вины!». А комбинация стола, настольной лампы, простой административной мебели, всей этой кафкианской параферналии предлагает нам иное звучание, вполне сухое, безразличное, бесстрастное, стертое, мол, не признает вину, хорошо, передаем дело в суд, там разберутся.
И, все же, мне кажется, автор заголовка видит себя прокурором. Мы на процессе; нация сидит на скамье подсудимых, в окружении конвоя, публика волнуется, адвокат утирает платком потный лоб, понимая всю безнадежность своей задачи. Ведь нация виновна. Признай она вину – срок скостили бы. Но нация упорствует.
Перед нами типичное советское сознание, мыслящее прошлое и настоящее, политику, мораль, историю в виде бесконечного показательного сталинского процесса – или же, в лучшем случае, Нюрнбергского или Гаагского трибунала. Такой тип сознания распространен даже среди самых отчаянных российских демократов (о защитниках кровавого режима и не говорю) – укажу на популярность рассуждений (публичных или даже частно-публичных, в блогах) на тему «по русской власти Гаага плачет» и прямых пожеланий увидеть премьера Х, прокурора Y, генерала Z на скамье подсудимых грядущего международного трибунала.
Заметьте: перед нами не «Я обвиняю» в духе Золя – такого рода жест вполне понятен и согласуется с самыми лучшими демократическими намерениями: условный Золя публично обвиняет тех или иных людей в преступлениях и готов обвинения свои доказать. В нашем же случае «вина» нации дается как данность, как кафкианский приговор, она не обсуждается, не доказывается; она просто есть.
Если вторая часть заголовка («не признающая вины») отсылает к коллективному сознанию советского человека, то первая – безусловно, к нацизму. Перед нами типичный пример неотрефлексированной самим автором статьи приверженности идее «коллективной вины». Не отдельные люди, или даже государственные или социальные институты виновны и должны это признать, нет – вся нация. Включая и тех, кто никакого отношения к преступлениям большевиков, Сталина или, скажем, Брежнева, не имел в силу возраста, социального положения и проч. В рамках подобной логики отдельный человек определяется, прежде всего, с помощью национальной принадлежности, а последняя устанавливается через соучастие в вине.
В первую очередь, некий человек -- еврей (и виновен в распятии Христа и множестве других преступлений), или крымский татарин (и виновен в пособничестве Гитлеру), или армянин, или тутси (и так до бесконечности), а уже потом мужчина или женщина, атеист или сикх, рабочий или писатель, почитатель Толстого или страстный огородник.
Об идее коллективной вины написаны тысячи, десятки тысяч исследований, пересказывать их не буду, отмечу лишь одну важную вещь.Несмотря на все разговоры «об истории», перед нами типичное мифологическое сознание; вина нации, народа не имеет хронологических рамок, начала и конца, она есть ВСЕГДА (интересно также неразличение разных народов, которые, по мысли автора статьи и заголовка, виновны – это «россияне»? «этнические русские»? «население бывшего СССР»? В последнем случае, вина распространяется и на сотни тысяч жителей нынешнего Европейского Союза, что, как представляется, не входило в замысел американского исследователя).
Через несколько дней в том же самом Фейсбуке я наткнулся на ссылку на другой материал в совсем другом издании. Заголовок звучал так: «Европейский “Акт Магнитского” саботируют». Как известно, акт Магнитского в Европе не принимали, увы. Причин этому множество – не будем вдаваться в сложную материю континентальной политики и отношений ЕС и России (хотя необходим, как мне кажется, именно такой подробный анализ). Отметим лишь, что никакого европейского акта Магнитского нет в природе. Оттого его невозможно «саботировать».
«Саботируют» постановление партии и правительства, выполнение принятых обязательств или заранее оплаченной работы, наконец, саботируют решение суда -- ну да, конечно же, суда. Получается, что второй заголовок о том же, что и первый, о бесконечном процессе с заранее установленной виной, с заранее написанным приговором и вечным его исполнением, как в исправительной колонии, придуманной Кафкой, где осужденному с помощью специальной машины вырезали на спине текст статьи закона, который он нарушил. Несколько утешает лишь третье лицо множественного числа глагола «саботировать»; перед нами, скорее, жалоба, если не донос – неназванные «они» саботируют, и это несмотря на то, что в самом тексте называется конкретная страна-саботажник и ее руководители.
Известную максиму Вагрича Бахчаняна «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью» затаскали в последние два десятилетия до неприличия; меж тем, этот печальный шутник был прав. Что доказывают вышеперечисленные примеры.
P.S. В данном тексте не приводится ни имен журналистов, ни названий их изданий. Ведь речь шла об общем на всех сознании, а не о персональных ментальных сюжетах отдельных авторов.
P.P.S. Отвечу на возможное недоумение «А при чем здесь Европа?» Она при том, что главным достижением послевоенного времени в странах, расположенных западнее бывшего железного занавеса, стала невозможность рассуждать в вышерассмотренных категориях. Единственное исключение – Германия, но только там претензии предъявляются к самим себе, а не, как в нашем случае, к кому-то другому.