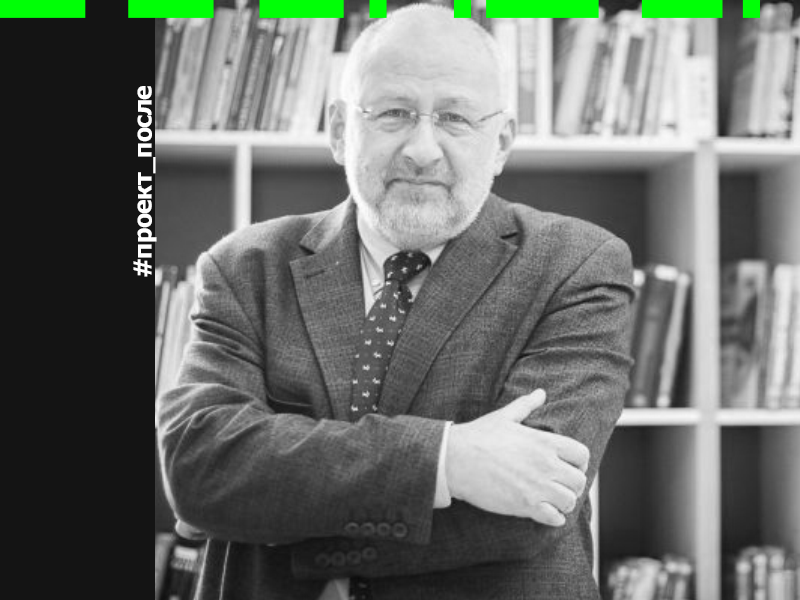
«Полит.ру» продолжает серию интервью в рамках проекта «После». Известный экономист, участник московско-питерской экономической школы, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета, автор книги «Когнитивная среда и институциональное развитие» Вячеслав Широнин говорит с Дмитрием Ицковичем и Виталием Лейбиным о том, как можно менять отечественные способы принятия решений и институционального строительства так, чтобы в очередной раз не попадать в регулярные исторические ловушки.
Русские национальные особенности принятия решений — не вполне точная формулировка темы. Речь пойдет о том, как мы вообще себя ведем, как воспринимаем действительность, не только о том, что у басурманов называется «принятие решений». И начинать надо с того, что у нас совершенно другое по сравнению с западным представление об окружающем мире. Далее по тексту мы будем постоянно различать «Запад» и «нас», русскую культуру.
А что такое «Запад» в нашем рассуждении, его же по-разному понимают в разных контекстах?
«Запад» — это то, что происходит от католического мира, потом частично стал протестантским, и впоследствии сильно менялся, но само его выделение происходит от схизмы. Христианский Восток, православная традиция — тоже разная, она уже на Русь попала в своеобразном виде. Но культурные различия, проходящие по линии схизмы, остаются существенными, несмотря на то, что после произошло много всего.
В корне западной культуры — идея объективно существующего мира, факта. В русской культуре нет столь же определенного понятия факта. Факт у нас удостоверяется бумажкой, справкой. Справку можно вынуть и показать в суде или милиционеру, но был ли факт, не ясно. В одном из детективов Дика Френсиса герой-старик, чтобы защититься от плохих людей, пишет доверенность, согласно которой полностью передает свои дела другому человеку. Потом плохой человек находит бумажку и рвет ее. А ему говорят: «Ну и чего вы этим добились? Вы порвали бумажку, но факт имел место. Воля была ясно выражена». Западная судебная и в целом общественная система опирается на факт.
В нашей общественной системе отношение человека к миру лишено определенности — то ли он реальный, то ли он нереальный. В какой-то мере с ним надо считаться, но может быть, его можно как-то поправить, починить. Моя любимая частушка из Тимура Шаова:
«Не влезай, убьёт, [… ]!» —
Ну конечно, влез… Убило.
Следом лезет обормот.
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там ни говорили,
Несгибаемый народ.
Я бы дорого дал за то, чтобы это перевести на английский язык в стихах, увеличило бы взаимопонимание между народами и многое бы объяснило. Ну что высоковольтный провод? Можем ли мы о нем сказать что-то определенное? Он то ли убьет нас, то ли не убьет, и мы его победим.
На стене кабинета Джона Кеннеди висел текст молитвы немецкого богослова Карла Фридриха Этингера (1702-1782): «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого». В западном представлении есть что-то, что незыблемо, закон, и его изменить нельзя.
Мы в России замечаем, что на Западе люди уважают законы. Но первое, что они уважают — это законы природы. А для нас даже законы природы — зыбки. Мы их знаем, конечно, но… «то ли убьет, то ли не убьет». А уж законы общества, это совсем уж условность.
Их этого есть множество следствий. Например, различны представления о свободе. В западном смысле свобода — качественное понятие, она либо есть, либо нет. При этом она существует или не существует в определенных рамках. Она территориальная. За забором — объективные законы, то, что я не могу изменить. Зато внутри забора я могу делать все, что угодно и никто — вообще никто и ничто — мне не сможет помешать.
Наше понятие свободы — количественное. То есть я могу быть более или менее свободен. Лучше всего, когда я могу влиять на как можно больше всего, а на меня влияют как можно меньше.
То есть наша свобода на самом деле — доминирование над другими?
Нет, не обязательно. Это отсутствие границ. Нет границы, где я бы ничего не мог, и нет забора, за которым по отношению ко мне никто ничего не мог бы сделать. Я пришел в гости, мне стул не очень понравился, я в него вбил гвоздь, хотя стул не мой и меня никто не просил. Приходит мастер повесить на стене картину, и вместо того, чтобы сделать что просили, начинает творить: «Хозяин, а я бы лучше здесь повесил, а не там, где ты хочешь». Человек начинает взаимодействовать с реальностью, с ней договариваться, не ведет себя как инструмент.
И чему такое «творчество» противостоит?
Свободе как компетенции. Я могу изменить что-то в сфере моей компетенции, на своей территории. С этим связано, кстати, право собственности и ощущение личного пространства.
То есть русская вольность противостоит свободе как набору прав?
Нет, свободе как просто очерченному месту, где ты хозяин. У Фридриха Хайека очень хорошо описана частная территория, private domain, включающая свое здоровье, свое имя, свою репутацию, свою собственность и так далее. И на частной территории — ты полностью хозяин, никто не может вмешаться в твои решения.
Свобода как система границ противопоставлена у нас пониманию свободы как системы, у которой нет границ?
У нас свобода — это просто коэффициент. На какое время я бы мог опоздать на нашу встречу, чтобы ты мне ничего не сказал? Мы договорились встретиться, но я бы хотел проверить свое влияние на тебя. На сколько я могу опоздать? На десять минут? Или на часы, как Владимир Владимирович?
Значит, ты свободный, а я несвободный.
В этом примере я как бы более свободный, да. Ты хочешь, чтобы я пришел вовремя, и вот мы все время тягаемся.
Если бы я был западным человеком и хотел бы, например, остановить войну, то я бы увидел, что я не могу данный момент и в данных условиях это сделать, это не в моей компетенции. А если я русский, то я все равно как-то постарался бы остановить войну, хотя бы на 0,1%.
Ну да, попытался как-то повлиять на нее.
И когда западный человек нам говорит, что свобода существует внутри границ, русский человек возмущен: «Какая ж это, […], свобода?!»
Ну правильно! Так он так и говорит! Вся эта заваруха — из-за того, что мы так не хотим. Мы хотим, чтобы наша воля была везде, ну хотя бы по чуть-чуть, но везде. Собственно, и поэтому мы и лезем... Они говорят: отдельная страна. Что прямо-таки отдельная? Мы так не думаем.
Много общего?
Все сложно.
«Все сложно», и мы имеем право все править. Сильный тезис в известной статье Тимофея Сергейцева в том, что нацизм не имеет границ и его можно править до океана в любую сторону.
Первые американцы, с которыми я начал общаться, я их пугал, что у нас нет слова privacy в русском языке. И его до сих пор нет. Сейчас, правда, появилось понятие «личное пространство». Даже в метро призывы не нарушать личное пространство. Но privacy как идея того, что вокруг меня непроницаемый кокон, в который никто не может влезть, у нас не кажется очевидной. Американец, который открыл в Ярославле пиццерию в 1993 году, говорил точно как в анекдоте: «Ехать в русском трамвае — это сексуальный опыт!» Даже физически личное пространство мы не привыкли чувствовать как исключительно личное, не говоря уже о собственности, вмешательстве в чужие дела. Если кто-то вырастил репу на огороде, на Западе никому не придет в голову как-то скорректировать его поведение, предложить поделиться (можно только купить) или уговорить посадить на огороде что-то другое.
Не запрещено, а еще даже на уровне культурного кода выключено.
И на уровне культурного кода, и на формальном уровне, юридическом. У нас же есть поговорка, что «закон не писан», и это действительно так, закон написан, но не нам. И не только законы общественные, но и законы природы мы не считаем абсолютными. В нашем мире все правила подвижны.
И здесь я должен сказать важный теоретический тезис. Эти две системы способны поглощать, изменять под себя, «съедать» инородные институты. Имплантация отдельных элементов другой системы, приводит к тому, что они растворятся. Вот это и называется «коррупция». Мы заимствовали, например, парламент, и он превратился в Думу. Мы там заимствовали право собственности, а оно превращается…
Во что оно превращается?
В сетевую структуру, в которой эта бумажка о праве собственности — это бумажка, а не право … В 1990-х Каха Бендукидзе обратил мое внимание на гениальную фразу тогдашнего свердловского губернатора Эдуарда Росселя: «Мы очень уважаем владельцев акций наших предприятий». У них есть бумажки, акции, но не предприятия. Эти бумажки — не пустой звук, это один из факторов, которые учитываются, конечно, в сетевых отношениях. «Мы их уважаем». Вот. И, собственно, и это всегда было так.
Такая традиция на этой территории всегда была. И это не то, чтобы функциональная — советская, военная или какая-то еще, в этом случае мы бы в истории могли обнаружить что-то иное. Я утверждаю, что эта общественно-политическая культура появилось вместе с восточным христианством.
И что разве можно что-то поделать со столь укоренившимися культурными паттернами? Что нам дает это знание, что с этим делать?
Нужно «воспарить» в общественном мышлении, научиться думать и работать в абстрактных понятиях по поводу своей культуры. Культура культурой, ее надо знать и понимать, но при этом надо научиться на нее смотреть сверху. «Сегодня я так думаю, а завтра я пошел на работу — и я веду себя в другой системе отношений». То есть освоить общественный язык западной культуры так, как учат второй, неродной язык.
Зачем?
Потому что все попытки его насадить, привить, сделать нашим единственным языком провалились. Причем не только у нас, а везде, где язык западной культуры не родной. Есть правда некоторые исключения, связанные, как правило, с опытом оккупации западными странами, например Япония…
Был длительный опыт принуждения следования неким правилам?
Да. Германия, Гонконг, Сингапур…
А зачем в Германии это надо было делать? Германия разве не была частью западной культуры?
Прогресс на Западе проходил разные стадии. Промышленно-индустриальная капиталистическая культура — она же голландская и англосаксонская. Германия — часть западной культуры, но не родина капиталистической культуры, ее культура была промежуточной. Идея индустриальной жизни была заимствована Германией в XIX веке, но там уже была более общая идея, которую можно коротко назвать идеей правового государства.
А зачем вообще его осваивать это язык западной культуры, что же без него никак?
Очень хороший вопрос. Ответ я скажу сразу, а доказательство занимает некоторое время. Ответ такой. Именно западное отношение к миру привело к тому, что начался прогресс. Потому что, с моей точки зрения, прогресс — это внешняя память общества.
Прогресс — это такая цифровизация?
Нет, это не цифровизация. Это вынесение информации во внешнюю память. Уже сам естественный язык — это внешний носитель памяти. Прогресс Западной Европы в Новое время — это накопление все новых «языков-флэшек», абстрактных описаний жизни, отделенных от самого потока жизни, вынесенных вовне.
То, что я говорю, это не объяснение, а попытка дать ассоциацию. Схизма между восточным и западным христианством с Х до XII века нарастала, а в результате католики создали правовую среду, которая позволила общественные отношения строить не по обычаю, а как высказывания языка. И дальше это пошло распространяться в разные сферы. Например, военные революции начались, когда военными подразделениями научились манипулировать как языковыми структурами. (Помните в «Войне и мире» Лев Толстой иронизирует над абстрактным, оторванным от земли способом командования Генерала Пфуля «Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert!? Но эта абстракция — первая колонна, вторая колонна» и есть технология, основа прогресса).
Ну, это похоже на одно из описаний мышления как такового, мышления как способа оперирования со знаками. То есть утверждение состоит в том, что только у западной культуры возникло мышление о сложных социальных вещах?
Не совсем. Интересно, что Виталий Найшуль, когда говорит о философии Григория Паламы, веерных матрицах и русских способах строить институты, он говорит примерно то же, что когнитивная наука, возникшая в послевоенное время и расцветшая сейчас. Согласно когнитивной науке есть два способа работы с информацией. Один способ — это примерно то, как работает язык, мы размечаем окружающий мир и вешаем ярлыки: это чашка, это стол, дальше у нас есть грамматика, правила оперирования понятиями, которые отсылают нас к обозначаемым ими объектам. Другой способ, на котором, построено то, что сейчас называется «искусственный интеллект», — это сети, реакции отдельных узлов сети друг на друга. Нейросетевой алгоритм не выражает свое знание (во многих моделях очень эффективное) в форме языка, понятий, картины мира, грамматики, это просто весы связей между элементами сети.
Так вот, наша культура в основе сетевая. Хотя на ней есть похожее на язык «членораздельное» наслоение, но все же — сетевая. Еще можно сказать, что она — голографическая, потому что каждый ее кусок содержит информацию обо всем целом. Но это отдельный разговор.
При этом и то, и другое — мышление.
Просто разные.
Они всегда в комбинации, и как-то они взаимодействуют, но это уже будет усложнение разговора. Это примерно как правое и левое полушарие.
Про голографическое мышление, есть фантастические литературные и кинематографические миры, в которых каждый из представителей цивилизации обладал всей полнотой знаний всех остальных.
Когда приняли поправки к конституции в 2020 году, Найшуль мне позвонил и сказал: «Вот, — говорит, — твоя взяла. Теперь все право голографическое. Ничего там нет конкретного»
То есть если два строка, но есть исключения, то это не язык права, это что-то еще.
Просто наше право — это языковая система, которая погружена в голографическую среду. Она в ней плавает, как кусок льда в воде. И тает по сторонам.
И кто становятся операторами в такой общественно-правовой системе?
А это очень интересно. В России власть пытается время от времени внедрять «членораздельную» систему: Великие реформы Александра II, мощная судебная система, суд настолько отделен, что оправдал Веру Засулич… Другой вариант, кроме внедрения элементов языка-закона, попытки сделать опричнину, то есть выделенную сетевую структуру, которая имеет право управлять первой.
У меня есть любимая цитата из «Зияющих высот» Александра Зиновьева. «В мероприятии участвовали две группы: испытаемая и испытающая. Эти группы состояли из одних и тех же лиц. Испытаемые знали, что за ними ведется наблюдение. Испытающие знали о том, что испытаемым это известно. Испытаемые знали о том, что испытающие знали о том, что это им известно. И так до конца».
Наше общество — это такая лента Мебиуса.
Возвращаясь к способам принятия решений. Минобороны и МИД все время повторяют один и тот же ход, объявляя любой ход противника в информационном противостоянии фальшивкой и инсценировкой. Очевидно, это не может быть всегда эффективным ответом, потому что все же факт существует, можно прийти на место и в конце концов выяснить, например, что Мариуполе роддом был настоящий и роженица настоящей и фото не постановочные. Хотя бы частичное признание реальности было бы, может быть, более эффективно?
Отвечу не на примере, а на том уровне абстракции, на котором мы говорили до сих пор. У нас же вообще каждый человек ходит со своей картиной мира. И договориться очень трудно. Я последние полгода всем объясняю, что я с Виталием Найшулем общаюсь как собака с человеком. То есть он что-то говорит, на меня это как-то влияет, но это не значит, что я его понимаю, даже буквально слова. Мы даже с ним придумали метафору для этого — «трансформатор» — одна обмотка создает поле, а другая обмотка ловит это поле, создает свой ток.
Есть объективная несовместимость картин мира. Я думаю, что у генералов есть своя реальность. Если уже редуцироваться до практики, то им, например, может быть вообще неинтересно мировое общественное мнение или целые группы незначимых для них фактов. У них есть начальство, и они думают о той картине, которую дать начальству. Каждый функционер сидит в своей локальности, его отдел, двадцать человек вокруг это и есть его реальность, настоящая сетевая структура.
Но тем не менее в нашей культуре есть культ правды, «сила в правде». Что тогда она означает, эта «сила в правде»?
А это означает, что «всех не перебьешь, нам никакой внешний закон не писан. Это с одной стороны. С другой стороны, «мы с ребятами вот так думаем», верим в это, это и есть правда. У нас правда своя. И это тоже какая-то важная вещь нашей культуры, которую никто не хочет отдавать. Потому что если есть объективная реальность, то неизбежен конформизм, ты должен думать как все… Как мне один коллега, который в свое время эмигрировал, с тоской говорил: «Неужели мне придется стать американским профессором? Это же, — говорит, — партсобрания! Они в рваных джинсах сидят, но у них же партсобрание на ученом совете!» То есть если общая правда, общий порядок, то нужно быть конформным, нельзя не думать, как все…
А теперь, кажется, понятно, почему это неудобно, почему нам надо все же учиться западному языку. С точки зрения организации любой деятельности, даже семинара очень важно, чтобы люди, которые собрались, все-таки какими-то общие базовые аксиомы разделяли, какой-то набор понятий и исходных посылок.
Так бывает, но не всегда. Я все время Найшуля цитирую, так как мы с ним много общаемся. У него такой рассказ-картинка. Совещание на производстве. Собрались и ругаются два часа. Ругаются-ругаются-ругаются, потом в какой-то момент начальник говорит: «Ну что? Все понятно? Пошли работать». На самом деле в этом хаосе был смысл, они занимались притиркой, то есть они вырабатывали даже не общую картину, а способность взаимодействовать с людьми в группе, и в результате получается некоторая связность, которая позволяет ей что-то делать как целое. А то, о чем вы говорите — это выработка языка, это, собственно, выработка локального диалекта. А у нас часто не так, у нас часто общее дело - это создание достаточно связной сети. Я думал о том, как работала наша «Змеинка», она работала так.
А что касается группы экономистов «Змеиной горки», ваш семинар 1980-х мощно сыграл в истории, стал группой, откуда в 1990-е пошли реформаторы и выработаны теории и представления, которые оказались востребованы. А где, в каких отраслях, в каких средах искать группы, которые могут предложить что-то, что будет востребовано на следующих этапах истории страны?
«Змеинка» не выработала представления, она скорее выработала целостность, способность адаптироваться и решать задачи, которые возникали по ходу дела.
И что теоретически новаций в ней не было?
Одна была. Теория административного рынка. Я пытаюсь понять, откуда пришли эти идеи, и для меня они — вы удивитесь — из «Педагогической поэмы» А.С. Макаренко. Оттуда пришла идея коллектива, который является действующим субъектом. И еще среди источников — книга Тадеуша Бреза про Ватикан («Бронзовые врата»). Она описывает Ватикан как сетевую структуру, в которой внутри что-то шевелится.
Но главным преимуществом нашей группы было то, что у нее был взгляд на советскую экономику как на объект. Советские ученые думали лишь том, как усовершенствовать систему, у них не было научного взгляда.
Они работали изнутри системы.
Да. Они были такие шестидесятники.
То есть сейчас надо искать и строить группы, которые смогут со стороны как на объект посмотреть на что-то даже в такой ситуации, которая нас втягивает внутрь процессов? Но на что?
Хоть на что-то.
А на что смотреть? На экономику, на войну?
Я сначала скажу, чего я не понимаю. Я совершенно не понимаю международный аспект. И я собираюсь этим заняться, если буду жив.
А второе: если смотреть изнутри, то у меня есть тезис. Если в 1991 году мы научились торговать, но теперь надо научиться не торговать. В 1990-е мы за экономическими соображениями забросили разные иные — этические, юридические и прочие.
У нас в итоге победил силовой прагматизм? Все время играем на доске обмена, то торгового, то военного.
Тогда, видимо, назрело желание у людей получить возможность спокойно обмениваться услугами, и в результате все стали только обмениваться услугами. А этого недостаточно для того, чтобы жить. И в этом смысле Путин, про которого говорят, что он спятил, уперся в ограничения этой системы.
В этом безумии есть своя система.
Да, и она такого как раз характера.
Подобные идеи были в последнее время в наших разговорах с Пастуховым и много с кем. В 1990-е годы мы с этой рыночностью спалили в людях другие важные вещи — милосердие, равенство, братство.
Алексей Рощин в книге «Страна утраченной эмпатии. Как советское прошлое влияет на российское настоящее» говорит о подобном механизме — когда под окном плачут голодные дети кулацкие и тебе не разрешают их накормить, то после этого ты уже становишься другим человеком. Так что подобные вещи не только, конечно, с 1990-ми связаны, но и вообще со всей историей.
Но был взрыв некоторый все-таки. Это «шрам на шрам», но все-таки.
Я тут делал слайды по хрущевскому периоду… Собственно говоря, ведь при всех ужасах сталинской жизни она была еще какая-то живая. Были там какие-то старьевщики, которые по улицам ездили… А при Хрущеве окончательно восторжествовала фабричная жизнь, которой мы все сейчас живем, каждый в своей квартире, каждый на свою работу ходит, никто ни с кем не общается и во дворе в мячик не играют, — вот это все началось с шестидесятых годов. Научиться торговать это не мешает, а вот не торговать такая атомизированная жизнь, конечно, мешает.
А как менять мир. Если все-таки нам нужны какие-то общие языковые ориентиры, то это делается образованием, школой?
У меня есть такая картина, я ее купил у художника. На ней изображен Мюнхгаузен на лошади, который себя за косу поднимает в воздух, а Россию в виде дородной женщины вытягивает из грязи. Это я к тому, а кто будет это делать? Это все советы кому? Сам себя за косу не вытащишь. В чем опора?
Это хороший вопрос. Потому что мы говорим про разницу культур, предполагая, что у этих супостатов, или наоборот друзей, благодетелей, врагов — у кого-то — есть какая-то, условно, структура, в том числе и структура элит, которая там какими-то что-то там делает. Что у нас? Почему у нас все время провалы попыток не дойти до ужаса.
Я вам дам пессимистический и асимметричный ответ. У меня такая идея, что во время всех революций, которые мы знаем, все же была какая-то структура, которая перенимала власть от прежней. Вот во время Февральской революции такой структуры не нашлось — все рассыпалось. Но появился Ленин со своей партией большевиков, которая взяла власть. Ельцин оседлал в качестве опоры РСФСР, которая стала Российской Федерацией. Путин взял структуру, можно считать, от ЧК. А сейчас я вижу две таких структуры. Одна — это Украина, а вторая — это Кадыров.
Остроумно, но и то и другое не являются структурами именно в социально-структурном, мне кажется, понимании.
Крейн Бринтон в книжке «Анатомия революций» показал этапы революций. Сначала назревает кризис, все недовольны тем, что происходит; потом старая система ломается, и приходят умеренные оппозиционеры (это Керенский или Горбачев), они пытаются сделать как лучше и у них не получается. И потом, когда они правильно попробовали сделать как лучше, приходят радикалы, якобинцы или большевики. И они хватают какую-то идею, не очень важно, какую, но эта идея точно не из прошлой жизни, новую, и они ее совершенно железной рукой внедряют, пока всем не надоедает. И тогда их убирают, и приходит более стабильная и системная власть, товарищ Сталин, какой-нибудь. Мы сейчас в стадии, когда все еще накапливаются недовольные, но следующие будут умеренные. А потом — посмотрим.

