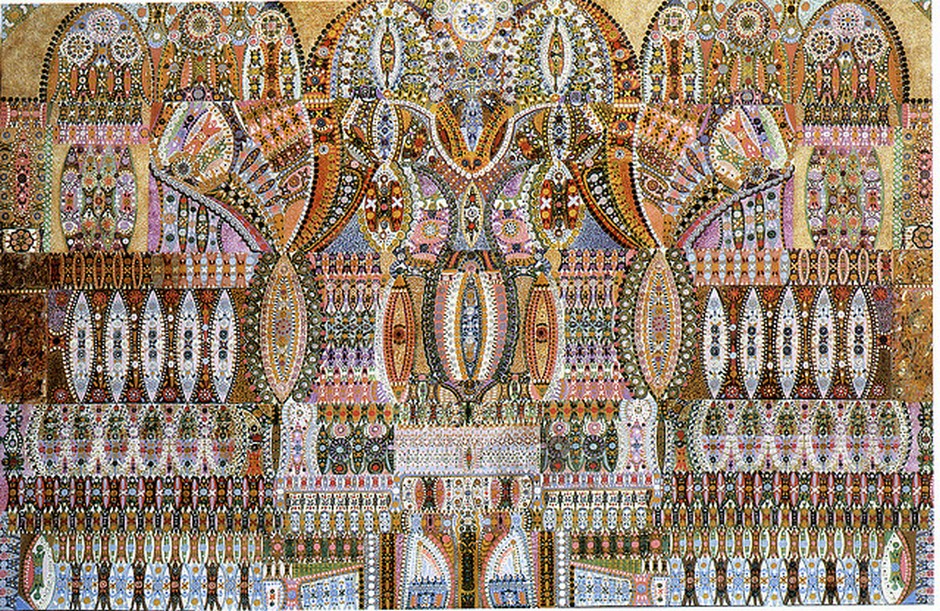
Автор - профессор Мюнхенского университета, философ, председатель Кантовского общества Германии Рейнгард Лаут рассуждает о месте ислама в мировой истории, которое становится понятным только при учете особенностей его возникновения.
Перевод с немецкого А. Муравьева

Прежде чем мы углубимся в дальнейшее исследование, нам надо будет представить себе историческую ситуацию на момент возникновения Корана. После разрушения Иерусалима римлянами в 70 г. иудейская вера лишилась своего религиозного центра и мест богослужения. Императоры-язычники запрещали иудеям (и христианам) жить во вновь отстроенном ими городе и посещать его святые места. Выжившее еврейство развивалось, таким образом, в рассеянии. В дальнейшем мы будем именовать его раввинистическим иудейством - именно с учетом отвержения им веры в Иисуса. Самый главный центр его помещался в Тивериаде на Генисаретском озере. Впрочем, следует принять во внимание и тот факт, что уже задолго до 70 г. еврейство рассеяния было в три раза значительнее палестинского.
По смерти Иисуса христианство быстро распространилось за пределы Галилеи, Иудеи и Самарии сперва в Сирии, а затем и в основном в восточной части Римской империи. В 313 г. Константин даровал христианству равные права с язычеством, и с этого момента Римская империя стала быстро превращаться в империю христианскую. Иерусалим теперь принадлежал христианам и стал резиденцией христианского патриарха.
Захват Иерусалима, удавшийся Хосрову II в 614г., стал чудовищным потрясением. Он временно передал управление городом иудеям, которыми Персия пользовалась как своего рода пятой колонной в борьбе против Восточного Рима. Совершенно логично для них встал вопрос о восстановлении Храма и возобновлении храмового богослужения. Но, когда в 628 г. после серии блестящих побед император Ираклий отвоевал Иерусалим у персов, эти еврейские надежды потерпели крах.
Вплоть до времени возникновения Корана Аравия была в политическом отношении «ничейной землей». Попытки императора Юстиниана в VI в. утвердить там долговременную ромейскую администрацию окончились провалом. Арабы, для которых торговля между Востоком и Римской империей была основой существования, тяготели частью к Персии, а частью – к Риму (Византии). Христианство просачивалось помимо Палестины также и из Эфиопии, однако возникшие в связи с ней южноаравийские государства не могли самостоятельно существовать.
Помимо городского населения в Аравии, как и прежде, значительную роль играло бедуинство. Однако бедуины уступали в духовном развитии жителям торговых центров. Поскольку использование торговых путей, проходящих через северную Аравию, вследствие вражды персов и ромеев становилось все труднее, а передвижения по ним – все дороже, путь через срединную Аравию именно в том столетии, когда в Мекке и Медине произошел великий переворот, стал приобретать первостепенное значение. Когда Иерусалим оказался в 637 г. вновь потерян для христиан, центр социального и религиозного равновесия также переместился в Аравию. Впрочем, событие это произошло уже во время записи Корана.
Уже в последние дохристианские века, прежде всего, после разрушения Иерусалима, многие иудеи переселились в Аравию. Христиане бежали, особенно после побиения камнями св. Стефана и последовавшего за этим гонения, не только в Самарию, но и в диаспору, в частности, между прочим, и в Аравию. Однако существенная разница между христианами и раввинистическими иудеями в дальнейшем проявилась в том, что христианство открылось всему миру, в то время как раввинистический иудаизм остался религией одного народа. И это решение оказалось в будущем исключительно важным.
Из Деяний Апостольских можно видеть, как сталкивались одна с другой обе тенденции. Тенденция к разрыву видна в поведении «эллинистов». Иудеи диаспоры были к этому моменту уже представлены многочисленной группой в Иудее и Иерусалиме. Из-за языковых трудностей они стали читать Библию в своих синагогах по-гречески. «Евреи» же, напротив, говорили по-арамейски и читали Тору и пророков на иврите. Незадолго до начала гонения, начавшегося побиением камнями Стефана, в христианской Церкви уже был конфликт между «евреями» и «эллинистами», на котором апостолы, собственно, и учредили диаконат как второй чин управления. Все первые диаконы носят греческие имена, а один из них – Никола – даже был иудейским прозелитом. Возвышение эллинистов до высших постов в христианской Церкви вызвало настоящую бурю: иудеи диаспоры из Египта, Малой Азии и Рима начали борьбу с христианскими дьяконами и вытащили одного из них, Стефана, на Синедрион, откуда его посреди волнения вывели на побиение камнями. Именно так началось первое великое гонение на христиан.
Существует, пожалуй, одно обстоятельство, которое нельзя не учитывать при анализе этого процесса. Св. Лука пишет о гонимых христианах: «и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Это обстоятельство кажется тут весьма удивительным. Ведь было бы естественно предположить, что апостолы как вожди должны бы более других бояться преследования и, чтобы избежать его, стремились покинуть Иерусалим. Но это не так! И этот факт позволяет нам поглядеть на тогдашнее взаимоположение иудеев и христиан. Апостолы были «евреями», и их вера могла по крайности сойти за некий вариант фарисейства. Они были людьми, поверившими, что Иисус – пророк и даже предреченный Мессия, но их прогрессивная вера после казни Иисуса стала выглядеть уже ошибочной. Эллинисты же как в иудейском, так и в христианском лагере заняты распространением веры. Еще больше, чем «богобоязненных», в дальнейшем было прозелитов, которые обрезывались и таким образом в полной мере принадлежали к иудаизму, а если крестились – то к Церкви. Волей-неволей «эллинисты» обоих лагерей оказывались конкурентами. Однако для иудейских миссионеров ситуация еще более осложнялась тем, что даже прием прозелитов в иудаизм не был легким делом. Если бы обрезание не было жестко увязано с интеграцией в этническое еврейство, случилось бы то, что впоследствии имело место в исламе и христианстве, а именно - расширение до пределов мировой религии. При этом этническая исключительность иудаизма просто-напросто исчезла бы.
К этому добавлялось и еще одно обстоятельство: в защитительной речи св. Стефана привлекает внимание то, как подробно он разбирает историю Ветхого Завета. Он делал это, конечно, еще и для того, чтобы показать, что христианство рассматривало себя как законного исполнителя Ветхого Завета, и даже более того – как сам этот Завет как таковой. Однако, в то мгновение, когда Стефан назвал Иисуса стоящим одесную Бога, гнев иудеев-эллинистов вспыхнул ярким пламенем. Дело в том, что «сидеть одесную Бога» означает непреложный принцип истины. Стефан ставит это Божие сыновство в прямую связь с постоянно повторяющимся в истории враждованием евреев на пророков, приведшим в конечном счете к убийству Иисуса. Иудеи-эллинисты, должно быть, испугались, что этот образ Иисуса и Его смерти будет подхвачен христианами-эллинистами в диаспоре, и это откроет двери Церкви для язычников.
Впрочем, побиение камнями дьякона Стефана не решило проблемы. Вскоре после этого неожиданно по дороге в Дамаск обратился в христианство один из ведущих представителей эллинистического иудаизма тарсянин Савл, и обратился он именно под впечатлением от свидетельства Стефана. И он начал тут же свидетельствовать об истинности христианства. Как такой свидетель, Павел в диаспоре обращался не только к иудеям (хотя, в первую очередь, к ним), но и прямо к язычникам, а с отказом от обрезания, он смог и отвергнуть исключительность еврейства. Тем самым, всемирная проповедь превратилась в задачу, и это положение вещей естественным образом еще более усугубилось после изгнания евреев из Иерусалима в 70 г.
Обитатели Аравийского полуострова в последующие века свели знакомство как с иудеями, так и с христианами. Что касается последних (и что окажется важным для позднейших событий), то они познакомились как с иудеями, так и с эллинистами, то есть как с теми, для кого всемирная проповедь была не вполне оправдана, так и с теми, кто проповедовал среди язычников. Из них большая часть была обращенной из язычества. Чтобы яснее понять, кого имеет в виду составитель Корана под словом «назореи», надо очень тщательно приглядеться к дальнейшим симптомам.
Чрезвычайно важно следующее обстоятельство, требующее пристальности: от кончины последнего пророка Малахии (ок. 450 г. до Р.Х.) до разрушения Иерусалима в 70 г. по Р.Х. прошло больше времени, чем от этого разрушения до составления Корана. Составитель Корана живет, как будет ясно из дальнейшего, в той же духовной атмосфере, в которой пребывали составители Библии, книг Премудрости и Евангелий.
Возвращение евреев из Вавилонского пленения, которое стало возможным благодаря персидскому завоеванию, имело следствием после прежних бедствий возобновление Храма. Вырисовывающийся с завоеванием персидским шахом Хосровом Иерусалима конец второго вавилонского пленения (ок. 70 г.) отстоит по времени так же от разрушения Иерусалима Титом, как и возвращение из Вавилона, произошедшее по манию Кира. Это событие могло еще вполне быть вписано в продолжавшуюся историю библейского народа, и именно так оно было воспринято тогдашними евреями. Поэтому можно было вполне законно считать, что мессианские пророчества еще могут – и даже прямо сейчас – могут совершиться. Тем более катастрофичным стал новый захват Иерусалима Ираклием в 628 г. Безусловно, Коран был к этому моменту почти закончен, но евреи уже потеряли всякую конкретную надежду. Когда некоторое время спустя (в 637 г.) арабы овладели Иерусалимом, ислам уже окончательно отделился от иудаизма.
Положение иудаизма
Коран основывается, как будет показано в дальнейшем, полностью на вере Торы, которую он превозносит и возвещает вопреки всем врагам и отступникам как непогрешимо верную. Именно поэтому важно понять положение еврейства в этот временной отрезок. Оно было довольно непрочным. После того, как две ненавистные силы – Рим и христианство – стали одним целым благодаря христианизации империи, планы вернуться на Родину и вновь отстроить храм следовало считать полностью похороненными. Даже завоевание Иерусалима Хосровом II было в высшей степени сомнительным облегчением, поскольку персы и стали владыками в городе, и в любом деле люди зависели от них. Полный и окончательный крах надежд на возвращение и на восстановление еврейского государства и храмового богослужения произошел уже после нового захвата города Ираклием.
Ветхий Завет, священная книга евреев, включает Пятикнижие (Тору) и Пророков (о литературе премудрости будет сказано позже!). Что касается пророков, то прореченное ими разделяется на две главные части: бескомпромиссная защита веры в Единого Бога и Закона, с одной стороны, и мессианские чаяния, становившиеся все сильнее под гнетом угрозы Израилю и Иудее от ассирийцев и вавилонян во время «вавилонского плена» и после него – с другой. Впрочем, эти мессианские пророчества в глазах раввинистических иудеев, которые отвергали Иисуса как Мессию, так и не исполнились. Раввины находились, таким образом, в фатальной ситуации, когда им надо было мессианские пророчества перетолковать, переиначить или отвергнуть. Эта ситуация NB, которая длится и поныне, предопределила попытки выхода, предложенные Мендельсоном, Марксом и Герцелем. Отсюда же происходит и вышеупомянутый метод Талмуда и мидрашей: иудейское самосознание постоянно пытается перетолковать несбывшееся мессианство. Проведенное последовательно (то есть без предательства веры), оно приводит к положению, для которого Закон становится все более определяющим как в религиозно-нравственном, так и в церемониальном смыслах. Само собой, уложения об обычаях, нормы которых охватили широкую сферу жизни, надо отделять от фундаментальных законов. «Бог объявил, - говорил Моисей – десять заповедей, и написал их на двух каменных скрижалях; и повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтоб овладеть ею». В правилах, по причине одного только коренного изменения положения евреев, находящихся в рассеянии, неизбежно появилась нужда в добавлениях и изменениях.
Миссионерство веры Пятикнижия
Коран – и это положение фундаментально – имеет задачей обращение арабов от многобожия к вере Пятикнижия (Торы). Бог вдохновил «преждеположенное Писание» (II, 2) для оправдания того, что евреи притяжали как собственность (т.е. Тору) и того, гарантами чего они были по воле Божией (II, 89). Как верно замечает по этому поводу К. Хруби, Моисеево Пятикнижие для Корана есть «центральная функция», утвержденная «до и после него». Эту веру в Закон и его абсолютную действенность и представлял Коран, и эту же веру он проповедует. Он вовсе не оспаривает факта (даже наоборот – это многократно подчеркивается), что иудеи «имеют Закон». Веру Авраама и то, что произошло с ним и с его потомками, надо понимать в свете речения Моисеева Закона, равно как и то, что впоследствии сказали и потребовали пророки, защищавшие веру в Бога (II, 130).
Составитель Корана обращается с возвещением и защитой этой веры к арабам: он проповедует. И это – второй фундаментальный факт. После заключительной молитвы первой суры он объясняет в начале второй: «Эта книга (كتاب) указывает безошибочно верный путь (حوداً).
То, что проповедь совершается посредством Писания, ставит как минимум одну существенную проблему. Поскольку составитель Корана многократно цитирует уже существующий текст (и притом не только заключительную молитву, но и некий арабский кор’ан), то возможно, что он пользуется каким-то (им самим подготовленным) арабским переводом Пятикнижия. Жозеф Бертюэль неоднократно высказывал эту точку зрения. Впрочем, невозможно утверждать, что этот кур’ан был именно переводом, поэтому нам придется остаться при гипотезе. Но далее письменная версия миссии ставит нас перед другой проблемой. Согласно раввинистическому закону, письменная фиксация какой-либо новой молитвы влечет за собой несчастье. Это столь греховно, что сравнимо с отрицанием роли Пятикнижия. Однако составитель Корана - возможно, из-за снисшедшего на него вдохновения - идет этим путем и формулирует в начале книги благословительную молитву, охраняющую все писание. А сверх прочего эта молитва – на арабском языке и арабскими буквами! Оговоримся: Коран не предлагает перевода Торы, а лишь приводит некоторые места из нее и парафразирует ее содержание таким образом, что это весьма напоминает перевод важных частей. Результатом этого метода было быстрое распространение ислама вплоть до границ известной тогда земли. Самому составителю, если смотреть на него только как на выразителя Божественного откровения, был, очевидно, известен раввинистический вердикт. Однако он написал это Писание как в некоторой степени второе издание Торы. Для этого у него должны были быть веские причины.
Арабам, которые не понимали ни еврейского, ни арамейского, Пятикнижие могло быть проповедано только на их языке. Коран в первую очередь обращен к идолослужителям, которым был неведом идейный мир Торы. Даже если свести определенный прогресс монобожия к подобию единобожия, то все равно останется огромная разница между «высшим богом» (аллах) язычников и Единым Богом (Аллах=Элоа) Пятикнижия. Когда впоследствии составитель сделал шаг к созданию некоего арабского Писания, он хорошо осознавал, что делает. И он совершил этот шаг по своему разумению верно. Подобно Моисею, который после разбиения на куски списка десяти заповедей, записанных по внушению Божию, лично переложил эти заповеди во второй раз, и составитель Корана сызнова пишет Тору, но на этот раз для не-евреев, ибо, по его убеждению, раввинистический иудаизм, как и прежде, ревностно защищает свои права на нее, предав при этом ее дух.
Необходимо обозреть весь масштаб этого дерзновения, чтобы оценить проповеднический замысел Корана. Кроме того, без всякого сомнения, им предполагалось распространение «веры Пятикнижия» посредством прозелитизма, поскольку составитель Корана в дальнейшем даже отказывался рассматривать эту веру как исключительное достояние иудеев. Ведь и правда, как явствует из Корана, он считает, что ислам будет последовательно проповедан всему человечеству через потомство Авраамово и арабский мир, и он совершит их обращение (VII, 158). Задача миссии тем самым дорастает до всемирного масштаба. Вера Пятикнижия должна стать всемирной. Положение, в котором себя замуровал раввинистический иудаизм отказом от всемирной проповеди, должно быть исправлено. Составитель Корана рассматривает Иоанна Крестителя и Христа именно в этой связи. Оба они, по его мысли, были настоящими пророками, несмотря на то, что назореи впоследствии извратили их пророческое учение.
Их отвержение евреями было одновременно отвержением обращенного к ним призыва – отказаться от исключительного права на «веру Моисееву». Но они остались при своих прежних намерениях: «Это наследник; пойдем убьем его и завладеем наследством его» (Мф 21:38).
Благодаря пламенной и страстной защите Моисеевой веры составитель Корана получает себе в помощь еще один довод, имеющий отношение к этому «наследству». Широким жестом он ликвидирует специфическое учение и послание пророков. Это хорошо подтверждается статистически: целых 500 раз он упоминает Моисея, около 100 раз – Авраама, но ни разу, даже походя, он не упоминает пророков, и прежде всего Илию и Елисея, даже тогда, когда они защищали чистую «Моисееву веру». Все искупительное пророчество им выпускается, равно как и то, что можно понять в мессианском смысле из истории праотцов. Это соответствует основной идее раввинистического иудаизма: мессианское пророчество не исполнилось, напротив – Иерусалимский Храм был разрушен. Выход, который избирает Коран, состоит в проповеди «Моисеевой веры» всем потомкам Авраама, а позднее и всем людям, которые готовы принять эту веру. В первую очередь это провозвещение дано арабам: у них есть преимущество, что они, как и израильтяне, суть чада Авраама в обрезании. Кроме того, Исмаил был обрезан ранее других и поэтому был принят как «Сын провозвещения», что превосходит любое естественное родство.
Это первое обрезание есть именно то, благодаря чему Авраам получает наибольшее значение. С обрезанием упраздняется принцип естественного порождения и возникает новый принцип – усыновления. В XIV суре об этом говорится так: «Авраам сказал: «Господи… Отдали нас от поклонения идолам, ведь они сбили с пути многих людей, а кто последует за мной – тот от меня» (XIV, 35-39). Исмаил, обрезанный первым по воле Божией, получает от Бога клятвенное обетование, которое Бог от него никогда не отнимет. Он есть и пребудет «сыном в сыновлении». Возражение, сделанное С.Д. Гойтейном, о том, что этнические арабы ко времени появления Корана уже почти вовсе не были исмаилитами, не лишает силы этот аргумент. Нечто подобное ведь можно сказать и позднейших евреях. Вовсе не естественное зачатие, а засвидетельствованное неким знамением участие в обетовании и задаче Авраама и его потомков имеет истинное значение. Насколько определяющим для Корана был этот материальный знак усыновления, свидетельствует молитва в конце второй суры, которая завершается такими словами: «Подай нам и яви милость, о наш обрезатель (маулана)» (II, 286).
Поскольку теперь, после отвержения ими Иисуса и споров с христианами, евреи потеряли истинную веру и сделались сектой, Бог вновь возвращается к обетованию Исмаила и делает его потомство через дарование Корана носителем обетования и учения Торы. Вследствие этого действия только те, кто принимает неискаженную веру Моисееву из Корана, исповедуют правильным образом истинного Бога. Правда и то, что раввинистические иудеи обладают Священным Писанием. Они цитируют и переписывают его, но не возвещают более чистого учения Торы. Подобно Стефану перед Высшим советом, составитель Корана приводит иудеям на память их всегдашнее вероломство – после Христа, при Нем и до Него. «Конечно, мы заключили договор с сынами Израиля и послали к ним пророков. Однако всякий раз, как приходил к ним посол с тем, что не любили их души, - одних они сочли лжецами, а других убили». (V, 70). «Так что же? Неужели надо каждый раз, как вы заключаете союз со мной, чтобы часть из вас нарушала его? Нет, большинство из вас не верует!» Таких людей «Священное Писание отвергает от себя» (II, 87-91). Таким же образом они желают воспрепятствовать проповеди среди арабов и не хотят отказаться от своего исключительного права, считая себя единственными собственниками «веры Моисеевой».
Обращение от многобожия
Арабы, которых составитель Корана в своей проповеди имеет в виду и среди которых он хочет проповедовать, по большей части являются идолослужителями, и он не замалчивает и не недооценивает этого факта. Они виновны в том, что утратили веру Аврамову. Соответственно возникает вопрос, как смотрит на этих многобожников Коран и как он оценивает их. Чаще всего мы встречаем презрительные констатации, что, мол, они почитают мертвые камни. Это лишь воспроизводит полемику Пятикнижия против язычников, но было бы совершенно неверно полагать, что в понимании составителя Корана современные ему идолослужители были лишь такими «язычниками из Торы». Некоторые места Корана выдают куда более глубокое знакомство с этим многобожием. В одном месте он весьма эмоционально клянется вечерней звездой и в связи с этим ставит такой вопрос: «Кто даст тебе знать, что такое Иштар?» (LXXXVI, 1-2; ср. также VI, 75-76). За многобожием арабов скрывается, как бы убого ни выглядела их вера в VII веке, система древневавилонской религии и астрологии. Это ясно уже из поразительного знания законов обращения Луны, Солнца и планет вокруг Земли, вычисленных математически. Вавилоняне уже были знакомы с эклиптикой и вычисляли по ней прецессию системы планет в отношении сферы неподвижных звезд. Периоды обращения четко высчитаны в отношении друг друга, а смена суток и времен года – даже лучше, чем у греков и римлян. Звездам, которые в этой системе считались богами, были присвоены определенные качественные силы и возможности, но, прежде всего, они образовывали одну иерархическую систему. В этой системе, особенно в древнейший период развития месопотамской религии, все светила, включая Солнце, были подчинены Луне. Здесь у нас нет возможности глубоко погружаться в этот предмет, однако трудно представить, что составитель Корана, который в прочих вопросах выступает как большой знаток, совсем ничего не знал об этом. И действительно, в некоторых случаях, например, при указании положения храма Божия, об этом можно догадаться. Пока что, насколько мне известно, не существует систематического исследования об отношении учения Корана к этим вышеназванным вавилонским представлениям, однако теория и практика ислама позволяют увидеть, что это древневавилонское мировоззрение куда более, нежели можно предположить, проникло в новую религию.
Вера Яхве
Вера в отныне Единого и Единственного Бога противопоставила себя этой системе закрытого имманентного миропорядка и, в конце концов, победила ее. Это произошло не только потому, что племенной бог иудеев и израильтян явил себя могущественнее других богов. Даже то, что Бог на Синае открыл себя как «Яхве», не проясняет всей ситуации. Это Имя Божие, без сомнения, выделяется уже тем, что в нем в первый раз на месте конкретного имени выступила абстрактная идея – «Аз есмь сущий (тот, кто есть)». Ученые некогда рассуждали, не сыграл ли тут роль египетский культ бога Ра. В Моисее впервые сошлись месопотамские и египетские духовные миры. Однако простой и абстрактный монотеизм едва ли мог много значить для столь непосредственно чувственного народа, каковым был народ израильский. Греки ищут «абстрактную мудрость», а евреи требуют «конкретных знамений», как говорит апостол Павел (1Кор. 1:22). Когда Христос спрашивал апостолов перед собравшимися вокруг него людьми, как насытить их, то апостол с греческим именем Филипп отвечал ему, что, пожалуй, можно купить хлеба на 200 динариев. На это ему возразил апостол Андрей, говоря, что есть несколько хлебов и несколько рыб. Эти слова хорошо выражают дух и конкретно непосредственный разум израильтян. Вера Торы глубоко коренится во временах, предшествующих Моисею, как об этом свидетельствует само же Пятикнижие, и в дальнейшем мы выясним, где же лежит этот корень. Бог Ветхого Завета предстает совсем иным, нежели боги или даже «верховный бог» язычников. Прежде всего, необходимо установить, в чем состоит эта особость и понимал ли составитель Корана, страстно исповедовавший ее, саму ее основу, проповедовал ли он Бога именно в таком смысле.
Языческий миропорядок, против которого восстает вера в единого Бога, был своего рода имманентным и естественным. В нем не предусматривалось чего-то вроде «сверхъестественного». Это, впрочем, означает, что сексуально чувственное пронизывает в нем все, включая область Божественного. Когда наш современник приходит из Бенареса в Сарнатх, он может пережить и ощутить разницу между таким фундаментальным природно-чувственным порядком и мировоззрением, которое уже знает о сверхъестественном. В индуистском Бенаресе гуру в благодарность за его учение люди бросают цветы на область чресел; в Сарнатхе, где на Будду снизошло просветление, царит аскетическое разделение духовного и чувственного. Самой болезненной проблемой, которую люди переживали в полностью закрытом природном порядке, была проблема смерти. Египетские пирамиды, равно как и эпос о Гильгамеше, остаются свидетельствами того, насколько заботила людей грозящая им смерть, при том, что никакого удовлетворительного решения не находилось. Вера в Единого Бога стала возможна потому, что фундаментально изменилось отношение людей к смерти. Прежде всего, это выразилось с негативной стороны: всевластье природы было в принципе преодолено; естественная смерть уже не определяла всего. Таким образом, говоря философски, мы видим лишь отрицательную сторону нового принципа. Вопрос же состоит в том, где положительная и качественная его стороны?
Если бы мы нашли здесь лишь отрицание естественной жизни как высшей ценности, то развитие не пошло бы дальше буддизма, который по ту сторону жизни видит лишь Ничто (нирвану – согласно куда более удачному пониманию буддизма хинаяны): освобождение от связанности природной реальностью. Но такое абстрактное освобождение от чувственной имманентности не исчерпывает веры в единого и единственного Бога.
Положительное содержание веры в Бога
Стоит углубиться дальше в веру в Яхве, как наталкиваешься на «закон», то есть десятословие. Его можно разделить по содержанию на две различающиеся части. Первые три заповеди касаются Бога, его владычества, его имени и его почитания; остальные относятся к сфере межчеловеческих отношений. Заповедь о почитании родителей подобно просьбе о «насущном хлебе» из молитвы Господней занимает там промежуточное место. Однако для этих заповедей свойствен, вообще говоря, характер запрета. Даже обе положительно сформулированные заповеди (третья и четвертая) сопровождаются в объяснениях об исполнении запретами и объясняются через запреты. В них говорится о том, чего нельзя делать ни в коем случае, или же о том, чего ни при каких обстоятельствах не должно предпринимать. Это значит, что они определяют элементарную нравственность лишь в самом существенном, но не в высших областях (о чем будет сказано впоследствии). Они определяют, что Бог по отвержении всякого многобожия должен быть исповедуем и почитаем, и что необходимо делать, чтобы люди (в первую очередь, израильтяне) действительно были уважаемы как люди. Они также определяют, что первое и главное условие для этого есть – и на этом строится вся высшая нравственность – творить добро и, насколько хватает сил, осуществлять его. Требования, находимые лишь в Книге Второзакония, - любить Бога и ближнего изо всех доступных сил – восполняют, пусть и не до конца, этот недостаток. Также и первые три заповеди подчеркивают, пусть и не до конца, единственность Бога и того, что Ему подобает, но не дают никакого объяснения, как же следует мыслить Бога в качественно-содержательном смысле.
Впрочем, десяти заповедям свойственна одна общая черта – исходящая от Бога, проявляющая себя как Бытие воля, так что они противопоставляют фактическому бытию, стремлениям и делам нечто существенно иное: абсолютное долженствование (das Soll). «Внемли Израилю, Господь твой Бог есть единый: ты должен…» Языческий мир вполне мог сформулировать свою эмпирическую волю и желание, но они вытекали, по его исходному убеждению, из сочетания опытно познаваемых сил и вновь низводили к естественному космосу (All) (включая богов). Категорическое долженствование, напротив, открывает некую действительность, которая противопоставлена всему, что существует фактически, как высшее, то есть абсолютная интенция. Это тут же выделяет Моисеево законодательство и делает его совершенно специфическим, ибо в нем абсолютное долженствование в своей инаковости выступает в самой острой форме против гипотетического стремления и фактического бытия.
Долженствование проявляется - в той мере, в какой оно обнаруживается, - в двух видах: вступая в противоречие с чувственно-господствующим, оно есть одновременно заповедь и запрет. Вследствие этого то, что проявило себя впервые в жертвоприношении Авраама как творческая сила, есть проявление основной внутренней интенции: выражения положительного желания из себя, выступающего прежде всякой оглядки на эмпирию.
Благодаря Синайскому законодательству народ Израиля поднимается на совершенно новый уровень и становится отныне чем-то совершенно иным в сравнении с другими народами. Он сознает и принимает существеннейшее различие между тем, что безусловно должно быть, и тем, что есть только фактически. То, что должно быть, выступает в этом новом порядке уже не как бывший космический закон и не как закон естества, и даже не как проявляющийся на человеческом уровне закон общины (говоря по-гречески, νόμος πολιτικός). Естество (в обеих формах) совершенно не может определять его - напротив, долженствование выступает в отношении к этому естеству как независимая и определяющая сущность. Ни вавилоняне, ни египтяне не достигли этой ступени; и даже греки отвергли его, как явствует из Софокла, который сделал попытку приступить к нему, ссылаясь на ἄγραφος νόμος. Платоновская добродетель, которую можно вполне считать наивысшей концепцией греческой этики, есть лишь гармоническое соотношение трех природных достоинств: мудрости, храбрости и благоразумия. Для позднейшего Платона и следующего ему Цицерона этически ценной является такая воля, которая может воплотить эту добродетель.
Коран выставляет этот категорический и свободный от всякого естества закон абсолютным императивом. Будучи выражением воли Аллаха, он вследствие подчеркивания единства Бога остается главным его признаком.
