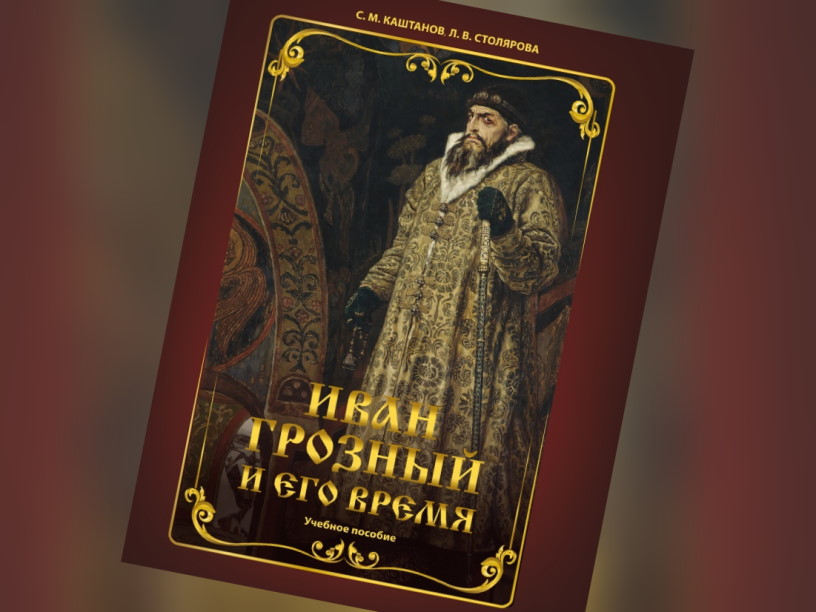
Издательство «Директ-Медиа» представляет книгу Сергея Каштанова и Людмилы Столяровой «Иван Грозный и его время».
Книга адресована студентам гуманитарных факультетов вузов, а также учителям истории, работающим в рамках системы дополнительного образования. Читатель найдет в ней очерки практически по всем вопросам социально-экономической, политической и культурно-идеологической истории России XVI в. В увлекательной и доступной даже неспециалисту форме в книге излагаются основные события внешней и внутренней политики правительства Ивана Грозного, освещаются особенности и характер реформ Избранной Рады, цели опричной политики, ее итоги и значение для дальнейшей истории России, обстоятельства династического кризиса, возникшего после гибели царевичей Ивана Ивановича и Дмитрия Ивановича Угличского, особенности развития русской культуры и так далее. Авторы книги уделили отдельное внимание обзору историографии вокруг Ивана Грозного: оценкам, которые давали ему разные историки, и формированию восприятия фигуры царя в массовом сознании.
Предлагаем прочитать фрагмент главы «Десять мифов об Иване Грозном».
Миф 4: Богатейшая библиотека Ивана Грозного спрятана где-то в подземельях Московского Кремля.
Предполагается, что Иван Грозный унаследовал от своей бабки, византийской принцессы Софьи (Зои) Палеолог библиотеку морейских деспотов (так называемую «Либерéю», от лат. Liber — книга), в которую входили как редчайшие и к настоящему времени утраченные древнегреческие, так и византийские рукописные книги. Согласно преданию, библиотека была вывезена в Москву в связи с замужеством византийской принцессы. Создателями тайника для Либереи ее искатели называют великого князя Ивана III и Софью Палеолог. С сокрытием библиотеки в «сводчатых подвалах» Кремля нередко связывают и его перестройку в XV в.
Считается, что Либерея пропала из Кремля после 1571 г. Исчезновение библиотеки соотносится либо с гибелью ее во время пожара в Москве, либо с перемещением ее в Александровскую слободу или другие города Русского государства, либо с тем, что она была надежно перепрятана. Одно из самых экзотических и совершенно невероятных предположений связано с историей Смутного времени. Некоторые искатели Либереи, ссылаясь на то, что по составу она вся была пергаменной (т. е. книги, хранившиеся в ней, были переписаны на специально выделанной коже животных), предполагают, что библиотеку… съели оголодавшие поляки во время осады Москвы.
Одним из главных доказательств существования Либереи принято считать свидетельство протестантского пастора Иоганна Веттермана из Дерпта, якобы приглашенного Иваном Грозным в 1570 г. для перевода книг с латыни и греческого на славянский язык: «…книги, как драгоценное сокровище, хранились замурованными в двух сводчатых подвалах» (Ливонская хроника Франца Ниенштедта). Иоганну Веттерману приписывается авторство так называемого «Списка Дабелова», впервые опубликованного в 1834 г. немецким историком права В. Ф. Клоссиусом. «Список Дабелова» якобы был найден в 1822 г. профессором Дерптского университета Х. Х. Дабеловым в архиве г. Пярну и содержал перечень редчайших латинских и греческих рукописей из библиотеки Ивана Грозного. Подлинность списка вызвала сомнения уже у его публикатора Клоссиуса, т. к. Дабелов демонстрировал лишь свою копию перечня, тогда как оригинал загадочно «исчез».
Целенаправленные поиски Либереи начались в 1601 г., когда польский посол в Ватикане Лев Сапега и иезуит Пётр Аркудий получили задание разыскать библиотеку Ивана Грозного. В «книжном шпионаже» в пользу Ватикана подозревали и отлученного митрополита Газского Паисия Лигарида, приехавшего в Москву в 1662 г. Высказывалось предположение, что Либерею искал и хорватский ученый богослов и энциклопедист Юрий Крижанич.
В 1724 г. по указанию Сената в России начались официальные поиски библиотеки Ивана Грозного. Они были инициированы после того, как Конон Осипов — пономарь московской церкви Иоанна Предтечи — упомянул о будто бы услышанном им рассказе о книжном тайнике «в Москве под Кремлем-городом». Академик Н. П. Лихачев (1862–1936) полагал, что свидетельства пастора Веттермана о библиотеке Ивана Грозного весьма достоверны, но считал «Список Дабелова» фальшивкой. И. Е. Забелин (1820–1908) не сомневался в существовании Либереи, но считал ее безвозвратно утраченной во время пожара в Москве 1571 г. Академик А. И. Соболевский (1856–1929) решительно настаивал на продолжении поисков библиотеки: «Сундуки с книгами где-то существуют, засыпанные землей или невредимые, и от нашей энергии и искусства зависит их отыскать». В конце концов разыскания были проведены директором Исторического музея кн. Н. Щербатовым и (практически одновременно с ним) немецким исследователем Э. Тремером по личному поручению императора Александра III. Все эти поиски результатов не дали.
В 1898 г. С. А. Белокуров (1862–1918) опубликовал книгу о библиотеке московских государей в XVI столетии, в которой решительно отверг факт существования Либереи. В 1899 г. Журнал министерства народного просвещения предложил «вопрос о царской библиотеке считать исчерпанным».
В начале XX в. поисками Либереи самозабвенно занялся выдающийся советский археолог, исследователь подземной Москвы И. Я. Стеллецкий (1878–1949). Он безуспешно искал ее следы в Москве, Коломенском, Александровой Слободе, Вологде и др. городах. В 1912 и 1914 гг. изыскания Стеллецкого переместились в Арсенальную башню Московского Кремля, однако из-за отсутствия средств были приостановлены. Повторные раскопки состоялись уже в советское время. В 1933 г. Стеллецкий подал докладную записку на имя И. В. Сталина с обоснованием необходимости дальнейших археологических исследований Кремля. В результате им был получен ответ коменданта Кремля Р. Петерсона, который просил письменно изложить, что представляет собой подземный Кремль и где может находиться библиотека Ивана Грозного. Раскопки начались 1 декабря 1933 г. и велись под угловой и средней Арсенальными башнями. В результате был обнаружен белокаменный ход под Кремль из угловой Арсенальной башни. Однако в декабре 1934 г. после убийства в Ленинграде С. М. Кирова было принято решение о прекращении кремлевских раскопок. Очень вероятно, что Стеллецкий еще раз обращался к Сталину в конце Великой Отечественной войны с просьбой о возобновлении исследований в Кремле и даже получил обнадеживающий ответ. В обращении в Академию наук (январь 1945 года) Стеллецкий писал: «Но после войны, после победы заветный клад будет найден! Порукою в том слово Великого Сталина!» Однако распоряжения продолжить раскопки не последовало. В послеперестроечной России интерес к Либерее проснулся у бизнесмена Германа Стерлигова. В 1995 г. при Московском дворянском собрании был создан поисковый штаб библиотеки. После подготовительного этапа (архивные изыскания) состоялось несколько поисковых экспедиций в Александров, Рязань и Вологду. В июле 1997 г. мэр Москвы Ю. М. Лужков выделил значительные средства и создал специальный Совет содействия поискам библиотеки Ивана Грозного. Однако в 1999 г. поиски Либереи были вновь свернуты. Научные реконструкции «библиотеки Ивана Грозного» (понятие это весьма условно и вряд ли имеет отношение к Либерее Палеологов) основаны как на упоминаниях и цитированиях тех или иных книг в литературных сочинениях, публицистике и переписке царя, так и на упоминаниях книг и отдельных литературных произведений («Слов», «Посланий», «Поучений» и пр.) в описях имущества и регестах церковных пожертвований, в приказной документации, посольских книгах и пр. Однако не следует забывать, что в XVI в. личные библиотеки в России еще только появлялись и состав их был весьма скудным. Цитирования или упоминания тех или иных литературных произведений в сочинениях Ивана Грозного и близкого к нему кругу лиц еще не означают, что они держали эти сочинения в руках и что знакомились с ними именно по книгам.
Во-первых, целые произведения и их фрагменты могли запоминаться со слуха, а цитирования могли делаться по памяти. Во-вторых, люди средневековья могли пользоваться своеобразными цитатниками и записными книжками для запоминания и использования тех или иных изречений и чтений. Такие записи могли делаться на бересте (в виде грамот и тетрадей) или же в виде навощенных деревянных дощечек-цер (кодексов). В-третьих, собрания книг в это время в основном находились в монастырях и церквах и представляли собой минимальные книжные наборы, предназначенные для богослужения. Иваном Грозным на протяжении всей жизни делались значительные книжные пожертвования церковным иерархам, монастырям и церквам как в России, так и на христианском Востоке (Афон, Синай, Иерусалим, Константинополь). В тех случаях, когда состав вкладов Ивана Грозного известен, он представлял собой рукописи богослужебного и богословского характера. Книг из Либереи в них нет. Поэтому что именно могло быть библиотекой византийских Палеологов, будто бы вывезенной в Москву и составившей основу так называемой библиотеки Ивана Грозного, неясно, как неясно, не была ли Либерея мифом. Против того, что Либерея, даже если она и была, могла оказаться в Москве, говорит тот факт, что после падения Константинополя в 1453 г. и гибели последнего византийского императора Константина XI его племянница Софья Палеолог, ее семья и ближайшее окружение оказались в Риме в весьма бедственном материальном положении. Трудно представить, что драгоценные книги Либереи в этой ситуации не были бы распроданы. Иван III женился в 1472 г. на бесприданнице.
Крупный знаток древнерусской книжности академик Д. С. Лихачев (1906–1999) предостерегал от преувеличения значения полумифической Либереи. Он говорил о том, что Софья Палеолог если и вывезла с собой какие-то книги, то их было немного, они были исключительно богослужебными и были необходимы будущей великой княгине, чтобы она могла молиться на родном языке. Кроме того, академик Д. С. Лихачев указывал на необходимость беречь сохранившийся книжный фонд Древней Руси, который действительно нуждается в серьезном финансировании, а не тратить деньги и силы на поиски очередного мифа: «Даже если библиотеку Ивана Грозного обнаружат, находка не будет представлять большой научной ценности».
Миф 5: Третья жена Ивана Грозного — Марфа Собакина («царская невеста») — была отравлена неизвестным токсином, который препятствовал естественным процессам разложения ее трупа. Когда вскрыли ее гробницу, «царская невеста» оказалась нетленной и поразила всех своей необыкновенной красотой.
Личная жизнь Ивана Грозного складывалась исключительно неудачно. 7 августа 1560 г. умерла его первая жена Анастасия Романовна, с которой он прожил в браке 13 лет и которую очень любил. Царица Анастасия родила Ивану Грозному шестерых детей: Анну, Марию, Евдокию, Дмитрия Пеленочника, Ивана и Федора. Из всех детей грозного царя только Ивану и Федору суждено было стать взрослыми. Дочери Ивана IV умерли во младенчестве. «Пеленочник» Дмитрий утонул 26 июня 1553 г., не дожив до года. 21 августа 1561 г. Иван Грозный женился повторно, сочетавшись браком с Кученей — дочерью кабардинского князя Темрюка Айдаровича, ставшей после крещения Марией Темрюковной. Однако и второй брак царя продлился недолго. Царица Мария Темрюковна умерла 6 сентября 1569 г. Детей от этого брака не осталось: царевич Василий умер двухмесячным младенцем в 1563 г. и был похоронен в царской усыпальнице Архангельского собора Московского Кремля. Иван Грозный побыл вдовцом два года и 28 октября 1571 г. женился на Марфе Васильевне Собакиной, происходившей из рода коломенских вотчинников. Однако уже 13 ноября его молодая жена скончалась. По предположению современников, она была отравлена. Тема отравления «царской невесты» легла в основу драмы Льва Мея и либретто знаменитой оперы Н. А. Римского-Корсакова.
В древности и средневековье отравители чаще всего пользовались мышьяком, точнее — триоксидом мышьяка, который надолго вытеснил другие яды: белый порошок, незаметно подмешанный в пищу или напиток, не изменял их вкуса и сам не имел ни вкуса, ни запаха. Иными словами, обнаружить мышьяк в еде было практически невозможно. Именно поэтому, боясь отравления, прибегали к практике пробы кушанья другим человеком или животным (собакой). Специалистам в области судебной медицины известно, что большая доза мышьяка убивает сразу, тогда как введение мышьяка в пищу малыми дозами приводит к смерти при явлениях гастроэнтерита. Сомнений в естественной смерти в таком случае не возникало, а определять наличие токсинов в теле умершего еще не умели. Отравители пользовались также сернистыми соединениями мышьяка, сурьмой, ярь-медянкой (окись меди) и др. Из ядов животного происхождения наиболее употребимыми были порошки из шпанской мухи, жабы, желчи гадюки и др.
В средние века нередко прибегали и к использованию ядовитых растений (белая акация, бузина, жимолость обыкновенная, ландыш майский, лютик, плющ, наперстянка, белена черная, белладонна, волчье лыко, дурман обыкновенный и др., всего ок. 700 видов растений) и грибов. Обращают на себя внимание выводы антропологов, работавших над изучением костных останков и восстановлением мягких тканей лица по черепу московских великих княгинь и цариц. Подтвердилось, что некоторые из них умерли насильственной смертью, подвергаясь медленному методичному отравлению. Такая судьба, в частности, постигла мать Ивана Грозного Елену Глинскую и его первую жену царицу Анастасию Романовну. Довольно высокое содержание солей ртути и мышьяка в костных останках жены царя Федора Ивановича царицы Ирины Годуновой, напротив, по предположению антропологов, об отравлении не свидетельствует. В соответствии с медицинскими представлениями средневековья, малыми дозами препаратов ртути и мышьяка ее могли лечить от бесплодия и, вероятно, от заболеваний костной системы (у царицы выявлен порок в развитии костей таза, который не позволял ей вынашивать детей). В костных останках Ивана Грозного и царевича Ивана Ивановича было обнаружено большое количество ртути — признаков возможного острого или хронического отравления ее препаратами. Таким образом, мы видим, что и врачи, и отравители XVI–XVII вв. пользовались однотипным арсеналом токсинов — травы, грибы, мышьяк, ртуть.
Однако в останках Марфы Собакиной ни солей ртути, ни мышьяка в опасных для жизни количествах не выявлено. Не исключено, что если «царская невеста» и была отравлена, то какими-то ядами растительного происхождения, может быть — травами или грибами. При этом протоколы вскрытия ее гробницы ни разу не упоминают о феномене якобы нетленности ее останков. Это не более чем красивый миф.
