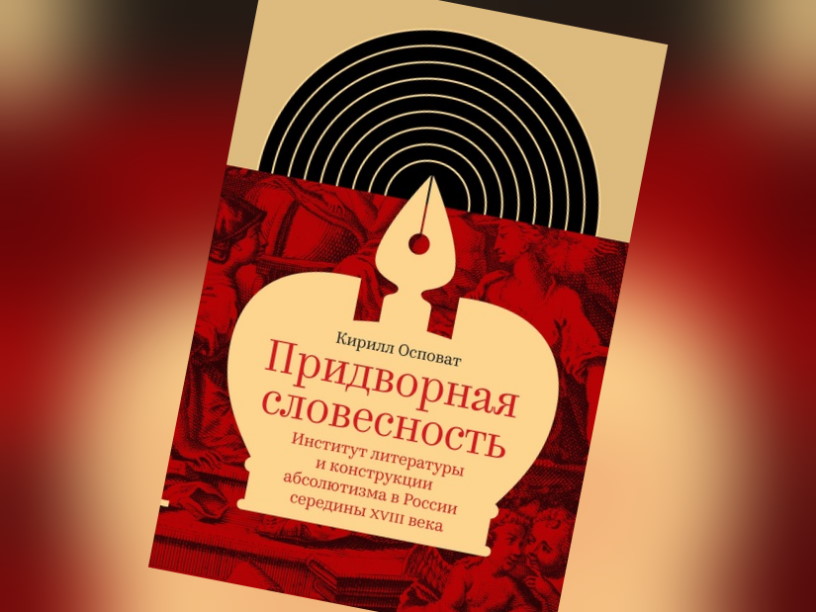
В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла новая книга в серии «Интеллектуальная история». Филолог, доцент Университета Висконсина в Мэдисоне Кирилл Осповат написал монографию «Придворная словесность. Институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века».
Институт литературы в России начал складываться в царствование Елизаветы Петровны (1741–1761). Его становление было тесно связано с практиками придворного патронажа — расцвет словесности считался важным признаком процветающего монархического государства. Развивая работы литературоведов, изучавших связи русской словесности XVIII века и государственности, К. Осповат ставит теоретический вопрос о взаимодействии между поэтикой и политикой, между литературной формой, писательской деятельностью и абсолютистской моделью общества. Как авторитетные представления о поэзии, принятые в Европе, повлияли на сочинения русских авторов елизаветинского времени — Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского и других? Какие коммуникативные схемы стояли за их сочинениями и какое место в модели социума было отведено литературному акту? В каких формах словесность предъявляла и обосновывала свои претензии на общественное признание? В чем лирический модус был смежен с конструкциями монархической власти и политической субъектности подданного?
Предлагаем прочитать отрывок из главы «Политическое богословие и физико-теология», посвященной «Оде, выбранной из Иова» Михаила Ломоносова.
Политическое толкование «Оды, выбранной из Иова» было предложено недавно Д. Крыстевой. Обращение Ломоносова к Книге Иова и образу Левиафана она соотносит со сформулированной в одноименном трактате политической философией Гоббса. Левиафан воплощает здесь неограниченную суверенную власть, усмиряющую мятежи и опирающуюся на христианское вероучение. В контексте «просветительской религии» исследовательница предлагает читать ломоносовскую «Оду…» как аллегорическую защиту абсолютистского принципа в ситуации послепетровской политической неустойчивости и, в частности, елизаветинского переворота 1741 г. Апологию бога-творца Крыстева сопоставляет с панегирическими образами монархов, в том числе Петра, а в последней строфе «Оды…», добавленной Ломоносовым к библейскому тексту, усматривает урок политической покорности и осуждение мятежа (Кръстева 2007; Кръстева 2013, 73–93). Это прочтение представляется нам в узловых моментах верным, хотя не лишеным упрощений: так, вывод о прямой политической аллюзионности «Оды…» кажется слишком поспешным, а соположение бога и монарха — недостаточно проработанным. В то же время намеченное исследовательницей сопоставление риторического устройства оды с концептуальными очертаниями абсолютизма и его политического богословия нужно признать исключительно продуктивным.
«Ода…» предлагает своим читателям признать непостижимую справедливость божественной воли:
Он все на пользу нашу строит,
Казнит кого или покоит.
(Ломоносов, VIII, 392)
Вопрос о метафизической и этической обоснованности земного, то есть политического, счастья и несчастья часто трактовался в моралистической литературе и находился в средоточии «Теодицеи» Лейбница. Карл Шмитт с полным основанием ссылается на Лейбница в подтверждение своего тезиса о том, что «все точные понятия современного учения о государстве представляют собой секуляризированные теологические понятия», так что «например, всемогущий Бог становился всевластным законодателем» (Шмитт 2000, 57–59). «Теодицея» пронизана сравнениями божественной и государственной власти. Возможность жалобы смертного на божественную несправедливость толкуется здесь в двойном, богословском и политическом ключе:
Люди, сохраняющие такое расположение духа, что они довольны природой и своим состоянием и не жалуются на них, представляются мне достойными предпочтения перед всеми другими; ибо кроме того, что человеческие жалобы необоснованны, они являются ропотом на провидение. Нельзя легкомысленно причислять себя к числу недовольных в государстве, в котором мы живем; тем более нельзя быть недовольным в царстве Божием, в котором можно проявлять недовольство вопреки всякой справедливости. <…>
Следует, однако же, признать, что в этой жизни есть непорядок, обнаруживающийся преимущественно в благоденствии некоторых злых людей и в несчастии многих добрых людей. <…> И было бы желательно, чтобы следующие слова Горация были истинными в наших глазах:
Raro antecedentem scelestum
Deseruit pede poena claudo.
[Редко за идущим впереди злодеем
Не следует хромой ногой наказание.]
Часто бывает также, хотя, может быть, и не в большинстве случаев, когда
В глазах вселенной небо оправдывает себя,
так что можно сказать вместе с Клавдианом:
Abstulit hune tandem Rufini poena tumultum,
Absolvitque Deos…
[Только теперь Руфинова казнь уняла мою смуту
И оправдала богов…]
Когда же этого не бывает на земле, вознаграждение уготовано в иной жизни; этому нас учат религия и даже разум, и мы не должны роптать на небольшую отсрочку, которую высочайшая мудрость находит полезной даровать людям для их исправления (Лейбниц 1989, 139–140, 503).
Свое наставление Лейбниц подкрепляет и картиной созерцаемого мироздания:
Небеса и весь остальной мир, добавляет г-н Бейль, возвещают славу, могущество и единство Бога. <…> Наша планетная система представляет собой подобное обособленное и совершенное создание, если будем рассматривать ее отдельно; каждое растение, каждое животное, каждый человек до известной степени представляют подобное же единство совершенств; можно усматривать в них удивительное искусство Творца <…> И один только человек, возражает г-н Бейль, этот венец творения своего создателя среди других видимых вещей, — только человек, говорю я, представляет величайшие возражения против единства Бога. И Клавдиан сделал такое же замечание, но облегчил свое сердце известным стихом:
Saepe mihi dubiam traxit sententia mentem, etc.
[Изречение в моей душе часто порождало сомнение, и т. д.]
Но гармония, существующая во всем остальном, очень ясно указывает на то, что она же существует и в управлении людьми <…> (Там же, 229–230).
Оправдание существующего порядка, увязывающее божественное могущество и философское созерцание вселенной с уроками политической покорности «государству, в котором мы живем», опирается на авторитет классических поэтов империи: Горация и Клавдиана. Оба отрывка Клавдиана взяты из поэмы, восславляющей богов за опалу императорского фаворита Руфина. Начало первой книги этой поэмы, процитированное Лейбницем во втором отрывке, Ломоносов переложил стихами и включил в «Явление Венеры на Солнце». Здесь разыгрывается тот же сценарий субъектности, что и в «Оде, выбранной из Иова»: созерцание космоса приводит героя к внутреннему переживанию божественного присутствия и могущества.
Клавдиан о падении Руфинове объявляет, коль много служит внимание к натуре для познания божества:
Я долго размышлял и долго был в сомненье,
Что есть ли на Землю от высоты смотренье,
Или по слепоте без ряду все течет,
И промыслу с небес во всей вселенной нет.
Однако, посмотрев светил небесных стройность,
Земли, морей и рек доброту и пристойность,
Премену дней, ночей, явления Луны,
Признал, что божеской мы силой созданы.
(Ломоносов, IV, 376)
В скрупулезном исследовании усвоения Клавдиана в русской литературе Р. Л. Шмараков заключает, что Ломоносов «радикально трансформирует структуру переводимого текста» — отказывается от «проблематики теодицеи» и, «оставаясь в рамках космологической проблематики», элиминирует «проблематику, связанную со злом в человечестве» (Шмараков 2015, 122–124). Хотя конкретные отступления от подлинника описаны Шмараковым совершенно точно, их итог можно толковать иначе. В контексте работы, доказывающей, что естествоиспытатели и богословы «обще удостоверяют нас не токмо о бытии божием, но и о несказанных к нам его благодеяниях» (Ломоносов, IV, 375), не приходится говорить об отказе Ломоносова от «проблематики теодицеи». (Шмараков имеет в виду, по-видимому, отсутствие в ломоносовском переложении процитированного Лейбницем стиха об оправдании богов.) Точно так же не совсем исчезает у Ломоносова политическая приуроченность стихов Клавдиана: читателю сообщается, что они написаны «о падении Руфинове».
В языке теодицеи познание божества в природе неотделимо от рефлексии о политических судьбах и соответствующей им нравственной дисциплине. Так, в «Письмах о природе и человеке» Кантемира созерцание и развернутое описание тварного мира предстает операцией этического (само)совершенствования субъекта, ведущего политическое существование и размышляющего о его законах. Фигура всемогущего бога становится точкой отсчета для осмысления общественных иерархий и этики успеха:
Мы видим людей многих, имущих великое богатство, знатные чины и изобилие даже до роскоши надмерной в домах своих, но редко от них слышим, чтоб они сказали: «уже живу я года два или три безмятежно, дух мой ныне спокоен, и ничего не желаю». <…> Если б всякий помнил, что никто властию почтен не бывает, как званны от бога, то б сего беспокойства не имели, всякой бы доволен был определенным. <…> добродетель научает человека довольствоваться тем, что он имеет, не допускает завидовать другому состоянию, сокращает желания <…> (Кантемир 1867–1868, II, 21–22).
Моралистика «Писем» направлена, как видим, против избыточных желаний и недовольства своим общественным положением. Противоядием от них должна служить идея бога, физико-теологическая риторика и связанная с ними специфическая нравственная программа, отождествляющая этический императив «добродетели» с политическим смирением и приятием иерархического строя как такового. Повествователь «Писем…» учится такому приятию после карьерной «неудачи», которую он — в отличие от древнего «афинского мещанина» — с гордостью приписывает не «несклонности судей <...> и народа», а «единой власти всемогущего бога» (Там же, 25).
Эта констелляция различима и в сочинениях Ломоносова. Еще одна цитата из стихов Клавдиана против Руфина обнаруживается в составленном Ломоносовым черновом наброске проповеди «о существовании бога» (см.: Шмараков 2015, 122–123). Этот набросок предположительно датируется 1752–1753 гг., временем публикации «Оды, выбранной из Иова», и представляет собой приступ к заключенным в ней темам. Цитируем его полностью, с включением интересующего нас зачеркнутого варианта:
Высокий славы твоея престол
В проповеди De existentia Dei in exordio dicendum erit [«О существовании бога» во вступлении следует сказать]: Ужас объемлет и мысли ослабевают хотящаго говорить о столь высокой вещи. Однако правда подает надежду и помощь того, cujus causa agitur [о ком идет речь].
Полк безбожников противу ополчается, пример: червяк <зачеркнуто: и царския палаты; монарх и червяк> и черьвь в лесу и в презренном листу гнилой капусты. Сверьчок в деревни за печью кричит и думает про себя, чать, много. Ex Claudiano. Toll[untur] [из Клавдиана. Возносятся]. Возносятся на высоту беззакониями и неправдами, но к тяжчайшему падению (Ломоносов, VIII, 545).
Фигура всесильного бога и сопутствующий ей риторический аффект обращаются во втором абзаце против «безбожников». Эти последние отличаются, впрочем, не столько своими мнениями о метафизических вопросах (в этом отношении и сам Ломоносов не был вне подозрений), сколько модусом политической субъектности, — амбицией, соотнесенной с пространством «царских палат» и фигурой «монарха». Безбожником оказывается сверчок, не знающий своего шестка. Далее Ломоносов цитирует широко известные стихи Клавдиана, часто иллюстрировавшие единство божественных и политических судеб. В изданной при Петре «Церковной истории» Ц. Барония ими сопровождается рассказ о гибели Руфина:
Страшныя судбы Божия: Сей иже на венчание царскою диадимою изыде, кровию своею венчася, а юноша кесарь не злобив, иже о кознех ничтоже ведяше, покровением руки Божия свободися от злокозненнаго сановника своего. Поганин Клавдиан сему удивляяся глаголет: Уже богов разрешаю, имже поносих, яко злых праведно не наказуют, и велие благополучие подают им. Ныне познах: яко того ради высоко возносят злых, да бы тяжчайшим падением низпадали.
Tolluntur in altum
Возносятся высочае,
ut lapsu grauiore ruant
Да падут жесточае.
(Цит. по: Шмараков 2015, 33)
В одическом языке Ломоносова этот мотивный комплекс появляется в политико-аллегорической картине падения Бирона, наследующей европейским инвективам против «мятежных феодалов» (см.: Пумпянский 1935, 113–118):
Что сердце так мое пронзает?
Не дерзк ли то Гигант шумит?
Не горы ль с мест своих толкает?
Холмы сорвавши, в твердь разит? <…>
Проклята гордость, злоба, дерзость
В чудовище одно срослись;
Высоко имя скрыло мерзость,
Слепой талант пустил взнестись!
Велит себя в неволю славить,
Престол себе над звезды ставить,
Превысить хочет вышню Власть <…>
Мой Император гром примает,
На гордость Свой перун бросает;
Внезапно пала та стремглав,
С небес как древня в ад денница;
За рай уж держит ту темница.
Ну, где же твой кичливой нрав?
(Ломоносов, VIII, 37–38)
В такой риторической обработке сюжет падения вельможи увязывается одновременно с образом божественного могущества и с уроком личного смирения. В оде Кантемира «Против безбожных» такой урок тоже опирается на политические доказательства божьей власти: «Низит высоких, низких возвышает». В четвертой и последней эпистоле «Опыта о человеке» Поупа вопрос о справедливости распределения земных благ и невзгод, богатства и бедности разворачивается в апологию политической иерархии:
Знай, что во всех делах господь, сей мир создавый,
Не особливые хранит, но общи правы.
Прямое счастье он не в счастьи одного
Изволил положить, но в счастии всего.
Нет счастья, кое бы так одному давалось,
Чтоб к обществу оно хоть мало не касалось <…>
Порядок первый есть создателев закон,
Который ежели исполнить должен он,
То должно людям всем конечно быть не равным,
Но знатным одному, другому же бесславным,
И нужно, чтоб один других превосходил
Богатством, разумом и крепостию сил. <…>
Неравенство даров нимало не мешает,
Чрез слабость каждого всех целость укрепляет.
Что каждо существо имеет разный вид,
Спокойство в естестве создатель тем крепит. <…>
Ни обстоятельства, нижé другá причина
Не может пременить сего в природе чина.
Царь, раб, предстатели, терпящие напасть,
Любимый и любяй, все ту ж имеют часть.
(Попе 1757, 55–56)
В этом рассуждении, построенном на проекции принципа «цепи творения» в политическую сферу, неудовлетворенность собственным положением и риторико-эмоциональные техники ее преодоления оказываются системным элементом политического существования и центральным моментом субъектности:
Которы случай нам слепой дары дает,
В тех ниже равенства, ниже единства нет:
Одних за счастливых и знатных признавают,
Других за подлых лишь и бедных почитают.
Но правость божеских весов чрез то явна,
Что страх одним, другим надежда подана;
Не настоящее в них счастье и напасти
Рождают радости или печали страсти,
Но чувство будущих премен благих иль злых
Движенья те сердец раждают в обои́х.
Скажите, смертные, опять ли гор громады
Друг нá друга взвалить и умножать досады
Хотите вы творцу, желая выше звезд
Ворваться силою внутрь неприступных мест;
Безумны ваши в смех господь советы ставит,
Он теми же и вас горами всех подавит.
Познай, что все добро, которым человек
Здесь может в временной сей наслаждаться век,
Все то, что сам творец и щедрая природа
Приуготовила к веселию народа,
Все те приятности, что мысли веселят,
Все сладости в сих трех вещах лишь состоят:
В потребах жития, во здравии телесном,
Потом в спокойствии надежном и нелестном.
(Попе 1757, 56–57)
Политический панегирик и философская моралистика сходятся в осуждении дерзости человека, равно сказывающейся в недолжной политической амбиции, ропоте против политико-метафизической «вышней власти» и даже в акте обращенного к ней совета. Сравнение «смертных» с бунтующими титанами у Поупа — Поповского неслучайно резонирует с политической метафорикой ломоносовской оды 1741 г. В обоих случаях картины божьего величия, явленного в неизбежном поражении дерзких, имеют своей риторической задачей формирование верноподданнического этоса и соответствующей ему нравственно-эмоциональной дисциплины: покорство и терпение должны быть ответом на разрушительные и зримо несправедливые политические катастрофы. Этой установке подчинено и развертывание грандиозных библейских картин в «Оде, выбранной из Иова».
