
«Сильные тексты» — это «виртуальный филфак», цикл открытых семинаров, в которых происходит свободное обсуждение канонических стихотворений русской литературы. Нам интересно рассмотреть, как живут и воспринимаются знакомые многим со школьных времен стихотворения XIX и ХХ века сегодня, что делает эти тексты «сильными» и как меняется литературный канон.
Бессменные ведущие семинаров: Роман Лейбов, Олег Лекманов.
Участники: поэт и филолог Вячеслав Попов; абитуриентка Мария Пармёнова, студентка Любовь Баркова, филологи Алина Бодрова Александр Долинин, учительница Ирина Лукьянова.
Лейбов: Мы начинаем четвертый сезон нашего открытого семинара «Сильные тексты». Мы говорим о таких русских стихотворениях, которые по разным причинам мы помним. Или не очень помним; или хотим вспомнить. Для того чтобы стихотворение помнили, самое надежное — это их передавать по радио с утра до ночи. К счастью, литература так не устроена и нам не забивают никакие стихотворения в голову. Но, впрочем, есть такие места, где нам стихотворения в голову забивают. Это школы. В русской школьной программе до сих пор довольно много стихотворений. И некоторые из этих стихотворений до сих пор учатся наизусть, такая практика, насколько я знаю, в русской школе до сих пор существует. В наше время она была очень распространена, мы учили и отрывки из прозы тоже (сейчас, кажется, уже не так это принято). И в конце обучения школьники должны продемонстрировать свое знание некоторого списка стихотворений, «сильных текстов». Демонстрируют они это в ходе единого государственного экзамена. И в честь страдальцев-родителей, которые тревожатся, кажется, больше всех; в честь страдальцев-педагогов, которые тоже тревожатся; и, наконец, в честь страдальцев, которые вынуждены что-то такое рассказывать про русские стихи, мы решили для этого сезона взять тексты исключительно из кодификатора ЕГЭ этого года. Один раз мы сжульничали, потому что в кодификаторе есть этот автор, но нет этого текста, и текст мы выбрали сами. Но я не буду забегать вперед. Начнем мы сегодня, и начнем мы естественным образом с Пушкина.
Ведем мы это дело вдвоем с Олегом Лекмановым, профессором НИУ ВШЭ (Москва). Меня зовут… напомни, Олег, пожалуйста, как меня зовут?
Лекманов: А со мной рядом, вот этот человек, который говорит так замечательно, он профессор Тартуского университета Роман Лейбов.
Лейбов: Ассистирующий профессор, я бы сказал. Это называется эстонским словом, которое непереводимо на русский язык. Вообще по-русски это называется «доцент», но сейчас у нас доцентов отменили, мы все стали ассистирующими профессорами.
С нами сегодня будут (я буду называть их в том порядке, как они будут выступать): поэт и филолог Вячеслав Попов; Мария Пармёнова, абитуриент из Санкт-Петербурга, которой мы посвящаем наши сегодняшние усилия.
Лекманов: И желаем, чтобы в понедельник ей досталось стихотворение «Анчар».
Лейбов: Нет, там, по-моему, это не так устроено. ...Это Любовь Баркова, студентка второго курса того же университета, в котором работает Олег Андершанович, но другого отделения; потом мы выступим с Олегом и тоже что-нибудь скажем; и это два… у нас сегодня, на самом деле, удивительный состав специалистов, потому что если искать анчароведов (вот я и рассказал, какое стихотворение мы будем сегодня трактовать, это стихотворение Пушкина «Анчар»), то это два самых главных анчароведа, которые мне известны, я главнее не знаю: это Алина Сергеевна Бодрова, тоже Высшая Школа Экономики. И еще что-то, Алин, правда?
Лекманов: Пушкинский Дом.
Бодрова: Еще Пушкинский Дом, да.
Лейбов: ...и Пушкинский Дом; и Александр Алексеевич Долинин, университет Мэдисон, Висконсин, наш постоянный и, ну, нельзя сказать «самый любимый», потому что мы всех любим, но очень любимый участник наших разговоров. Это педагог, учитель школы «Интеллектуал» Ирина Владимировна Лукьянова. И мы начинаем. Последним будет выступать тот же самый поэт Вячеслав Попов, который сейчас прочитает нам стихотворение Пушкина «Анчар», а я его выведу на экран. Для того чтобы нам потом было удобнее о нем говорить, нам нужно будет его освежить в памяти.
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.
Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.
К нему и птица не летит,
И тигр нейдет: лишь вихорь черный
На древо смерти набежит —
И мчится прочь, уже тлетворный.
И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.
Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.
Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;
Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.
А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.
Лейбов: Спасибо большое. Пожалуйста, Любовь, расскажите нам, что вы хотели рассказать об этом стихотворении.
Баркова: У меня будет полумемуарный рассказ о том, как я читала «Анчар» в школе и что именно мне было интересно. Потому что «Анчар» я, как примерно все люди моего поколения, в школе проходила, и о нем нам надо было писать сочинение. При этом темы сочинения у нас были более свободные, и поэтому, как я сейчас помню, там была просто тема сочинения по сути что-то про «Анчар» без всякой конкретики. Мне в школе не нравилось как мы в классе читаем тексты; то, что, когда мы их читаем, мы в первую очередь смотрим на их содержание, обсуждаем все происходящие там конфликты, но при этом… у нас вообще метод разбора поэтических текстов и метод разбора текстов прозаических не особо отличался, и поэтому я решила, что я напишу какое-нибудь максимально формальное сочинение, в котором больше буду расписывать всякие особенности стихотворения именно как стихотворения, а содержание дописывать немножко по остаточному принципу. Собственно, в итоге это сочинение, кажется, учительнице понравилось. Но я попыталась вспомнить, что же я писала тогда, и поняла, что тогда я описала неверно один из эффектов, а теперь я поняла, как его можно описать более верно.
Собственно, в чем дело. «Анчар» — это довольно заметно — делится на две смысловые части. Первая часть — это описание анчара, и вторая часть — это описание уже приключений действующих лиц. Эти части различаются, на первый взгляд, банально тем, что первая в настоящем времени, а вторая — в прошедшем. Но, тем не менее, меня не оставляло какое-то ощущение, что эти две части чем-то различаются по языку. И тогда, классе в девятом, я предположила, что это может быть связано с тем, что у большинства прилагательных в первой части значение смещено таким способом, специфическим для стихотворения, при том что во второй части никаких метафор, кроме тривиальных языковых, нет. Сейчас я посмотрела, и мне кажется, что это совершенно не так; что каких-то специфических метафор и в первой, и во второй части довольно мало, и что единственное прилагательное, о котором я на сто процентов уверена, что это специфическое смещение значения поэтического языка, а не тривиальное значение языка XIX века или более ранних периодов языка, под которых немножко стилизована поэтическая речь XIX века, это «скупая пустыня». Все остальное — вряд ли какие-то специфические эпитеты.
Но. Что интересного происходит с прилагательными: в первой части у нас двенадцать прилагательных на пять строф, а во второй части у нас девять прилагательных на четыре строфы. И при этом в первой части у нас в восьми случаях из двенадцати прилагательное оказывается в постпозиции к существительному, которое оно определяет: «в пустыне чахлой и скупой, (...) зноем раскаленной», «зелень мертвую», «вихрь черный», он же «тлетворный», «лист дремучий», «песок горючий». При этом во второй части у нас вроде бы при обилии прилагательных не возникает ни одного случая, когда прилагательное оказывалось бы в постпозиции к существительному, которое оно определяет. Мне кажется, что именно так появляется очень любопытный эффект, что речь из торжественной и отстраненной резко снижает свой регистр в более естественную, но при этом не теряет своей торжественности благодаря тому, что она сохраняется в лексике.
Лейбов: Спасибо большое. Я бы заметил, что там постпозиции прилагательных (но и причастий тоже, которые вы справедливо вместе посчитали) связаны еще и с тем, что они падают на рифменную позицию, то есть они дополнительно нагружены в первой части, в отличие от второй части, где действительно они стремятся к более «скромному» месту внутри стиха.
Баркова: При том что по смыслу они во второй части продолжали быть важными.
Лейбов: Да-да, это именно так. Вообще это довольно интересное наблюдение, редко бывает, чтобы внутри одного текста так сильно противопоставлялись постпозиция (это когда прилагательное после существительного) и препозиция (когда перед). В стихах можно и так и так: «белеет парус одинокий» или «белеет одинокий парус» — более или менее все равно, но, тем не менее, с этим тоже можно каким-то образом играть. Кажется, Пушкин действительно это делает. Спасибо, очень интересно, я не задумывался никогда об этом.
Мария, пожалуйста.
Парамёнова: Я свой рассказ об «Анчаре» хотела бы начать с того, когда и почему это стихотворение было написано. Пушкин возвращается из ссылки в 1826 году. Находясь в ссылке до этого несколько лет, он же ожидает свободы, то есть он физическое возвращение в город связывает с освобождением, он думает, что вот сейчас все закончится, он потом сможет писать, может быть, что-то свободолюбивое, как он привык. Он разочаровывается, возвращаясь, потому что понимает, что теперь за ним установлен пристальный контроль, что все его стихотворения, связанные с политической тематикой, подвергаются цензуре. И через какое-то время он пишет «Анчар», который становится для него отдушиной, там он говорит все что хотел, но в тех терминах, в которых ему это было позволено.
Кроме очевидной декларации жестокости власти, кровожадности власти в поэтическом контексте, в этом стихотворении поднимается, мне кажется, более широкая тема: это степень разрушительности самой идеи и концепции власти для человеческой природы. Потому что в этом стихотворении описан анчар, какое-то абсолютно самобытное дерево, оно не опасно для тех, кто дорожит собственной жизнью. Там интересно подчеркнуто, что животные к анчару не приближаются, потому что природа животных не извращенная, не испорченная, в натуре любого живого существа заложена идея жизни, какой бы очевидной идеей это ни казалось. Любое живое существо стремится жить, стремится к жизни, страсть к жизни — это базовая настройка, грубо говоря. А власть — настолько искусственна для человеческой природы, неестественна, что она из человека это искореняет. В стихотворении дается две модели поведения: это модель поведения слуги и модель поведения царя. И обе в общем-то разрушительны. Это человек, который разрушает сам себя. Слуга умирает, выполняя приказ царя, доставая яд, и, соответственно, он ставит необходимость подчинения выше своих базовых инстинктов: инстинкта выживания. Выбор, который он делает, — выбор неестественный для человека. И Пушкин пишет об этом… мне кажется, что он не сочувствует слуге, он пишет о нем достаточно пренебрежительно, без особого сожаления и, на мой взгляд, холодно. Надо еще вспомнить, что Пушкин воспитан на идеях романтизма. Гете писал, что «..Лишь тот достоин жизни и свободы, / Кто каждый день за них идет на бой!» («Фауст»). Я предполагаю, что Пушкин разделял такие идеи, что любой человек располагает свободой выбора, то есть поведение слуги — это выбор, и это выбор не в свою пользу, это выбор, неестественный для человека.
Царь ведет себя тоже разрушительно: если шаги слуги буквально привели его к смерти, то шаги царя косвенно тоже ведут к разрушению, потому что любая отправленная стрела, заряженная ядом, так или иначе потом ведет к получению эквивалента этой стрелы условной в ответ. То есть это такая понятная система, где все возвращается. Царь в перспективе тоже смерть распространяет, разрушение общее.
Пушкин пишет о подобного рода человеческом поведении как о неестественном, как о нездоровом явлении, как бы имея в виду, что эта искусственно созданная иерархия власти разрушает базовую природу человека: страсть к жизни убавляется в нем. И получается, что для Пушкина как человека, который ценил личную свободу, и градус жизни в нем вообще всегда был раскален до предела, стихотворение «Анчар» — это квинтэссенция всего неестественного, искусственного, несвойственного человеку и привитого ненатурально, разрушающее в нем все самое человеческое, что в нем есть. То есть эта концепция власти — она все это в общем-то и разрушает.
И последнее, наверное, что я хочу сказать: я когда писала это все, я поняла, что проблематика «Анчара», наверное, сходна в каком-то смысле с проблематикой «Медного всадника». Там тоже конфронтация человеческой природы и власти, то есть губительного для человеческой природы и несвойственного. То есть власть, по мнению Пушкина, не свойственная базово живому человеку концепция, навязанная. То есть это противопоставление естественного побочному, человеческого искусственному. Для меня это если не главное, то важное положение относительно «Анчара».
Лейбов: Спасибо.
Лекманов: Я буду говорить о совершенно конкретной и частной проблеме, я буду говорить об этом стихотворении как о тексте, который учится наизусть и произносится вслух, что обостряет проблему произнесения текста, исполнения текста в том числе и школьниками.
Хочу сразу заметить, что реальная для сегодняшнего дня проблема возникает уже во втором стихе, потому что в сознании исполнителя начинается борьба между привычной для него форме «раскалённой» и формой, которой требует стихотворение: «раскалЕнной». В сознании Вячеслава Попова, который все-таки не только поэт, но и филолог, этой борьбы, наверное, не происходило, а вот у сегодняшнего исполнителя сплошь и рядом эта борьба происходит. А иногда даже она не происходит, потому что исполнитель просто не слышит и не понимает, что такое чтение — «раскалённой» — что-то немножко меняет в восприятии стихотворения. И, судя по исполнениям в Ютубе (а я их посмотрел около ста, перед тем как сюда пришел), приблизительно поровну исполнители делятся на тех, кто говорит «раскалённой», и тех, кто произносит «раскалЕнной». Это не ошибка первого чтения, то есть не то что люди (такое как раз легче допустить) читают «раскалённой» сначала, а потом доходят до «вселенной» и понимают, что они прочли неправильно. По-видимому, они тренировались перед тем, как это исполнять, но тем не менее они этого не ощущают.
Пока хочу сказать только вот что еще: учителя-методисты, кажется (нам Ирина Владимировна расскажет, мы еще про это немножко тоже поговорим), пытаются как-то помочь здесь исполнителям. Я нашел, например, в пособии 2010 года «Сборник олимпиадных заданий», составленном Валентиной Малюгиной, вопрос: «Как нужно произносить слово "раскаленный" в стихотворении А.С. Пушкина "Анчар"? Почему?» И на этот вопрос ниже дается ответ уже в конце: «Слово "раскаленный" нужно произносить не "раскалённый", потому что при неправильном произношении будет нарушена рифма. Указанное произношение отражает норму XVIII-XIX вв.». Между прочим, как мне кажется, это не совсем правильный ответ. Потому что, скажем, если смотреть «Корпус русского языка», то в XVIII-XIX веке в поэтических текстах там, где слово стоит (и можно проверить легко) в конце строки, то есть оно рифмуется, «раскалЕнный» и «раскалённый» встречаются приблизительно одинаковое количество раз. Приведу один только пример из Хомякова, где «раскаленный» рифмуется с «зеленый», то есть явно совершенно не «зелЕный». И только у Майкова, как в «Анчаре», «раскалЕнный — вожделЕнный», то есть явно совершенно рифма, ну, нет «ё».
Лейбов: Спасибо большое, Олег. Еще одно замечание. Поскольку так распространилась любовь к сплошному написанию буквы «ё» в русском языке, то мы можем смотреть не только на исполнение «Анчара», но и на воспроизведение, и посмотреть, есть ли такие люди, которые специально «ёфицируют» «Анчар» и вставляют туда эти буквы, и как они вставляют. Кстати, «Вселённая» никогда не попадалась? А жалко.
Лекманов: В устном исполнении никогда не попадалась.
Лейбов: Ирина, пожалуйста.
Лукьянова: Я бы еще хотела добавить в эту коллекцию начало стихотворения Спайка Миллигана в переводе Григория Кружкова:
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскалённой,
Лев, проходя на водопой,
съел по ошибке почтальона.
И что же? Он теперь грустит,
Грустит, несчастный, и скучает:
Хотя он очень, очень сыт,
Но писем он не получает.
Лейбов: Да-да, хорошие стихи. Я их знал, но забыл. Я со своей стороны тоже скажу пару слов. Я погрузился как-то в школьное анчароведение, с интересом выяснил, что… ну, собственно, в XIX веке не было никаких обязательных учебников, были гимназические программы, но одновременно существовали разные хрестоматии для гимназий, для военных училищ, для начальных школ и разного рода. Их было очень много. Когда-то мы довольно много времени посвятили с Алексеем Владимировичем Вдовиным поискам таких книжек, и Алексей Владимирович составил базу данных по ним. И посмотрев на эту базу данных (она неполная, но тем не менее имеется), я с интересом увидел, что уже в XIX веке в некоторых книгах для чтения «Анчар» был. В том числе он был в одном-единственном издании (здесь интересно и то, что он там был, и то, что он был только в одном издании) очень популярной хрестоматии Стоюнина. Но только в одном издании.
Повезло «Анчару», конечно, в ХХ веке, потому что действительно его как-то зачислили по ведомству свободолюбивой лирики, хотя, скажем так, если мы читаем текст, то вообще он довольно мрачен… он, конечно, про социальное зло, но и анчар, как сказано в одном из черновиков, «феномен роковой», который возникает в мире не социальном, тоже в общем как-то… в отличие от Петербурга не вызывает никаких положительных эмоций у повествователя. Довольно гнусный феномен. Но его зачислили по части свободолюбивой лирики, и удивительным образом, прочитав довольно много всяких школьных и не-школьных текстов, я пришел к такому занятному выводу: в общем, «Анчар» — настолько отчетливое высказывание, что он сам себя читает. О нем не написано практически никакой ерунды. Я посмотрел на учебник, по которому учились мы, он был очень идеологически деформированный. Эту часть писал Валентин Иванович Коровин. Но и там не особенно педалируют борьбу с самодерждавием… там очень смешно сказано: «Легенда о древе яда под пером Пушкина вырастает в суровое обвинение деспотизма. Своеобразие "Анчара" состоит в том, что мысль Пушкина выражается в рассказе, в сюжете, а не от лица автора. В стихотворении философски обобщена трагедия современного Пушкину человека». И тут вдруг автор спохватывается и добавляет фразу: «Конечно, Пушкин имел в виду прежде всего российский деспотизм». Конечно нет. Конечно это не тот случай, когда он ловко продернул царя и что-нибудь такое.
Все, писавшие об этом тексте, на мой взгляд, довольно адекватны, начиная с посвятившего «Анчару» довольно значительную часть в своих этюдах о Пушкине, профессора Сумцова (тогда, кажется, он был в Варшаве, это 1900 год) и заканчивая новейшими исследователями, все довольно хорошо, правильно пишут. Там есть свои «ручейки и пригорки», о которых нам расскажут Алина Сергеевна и Александр Алексеевич, там есть тонкие интересные сюжетные повороты. Но в общем действительно поразительным образом никакой особенно ерунды: ну вот кроме последних, знаете, интернет-публикаций, где уже просто идет какое-то бессмысленное вранье про то, что встретили цензурные затруднения такие произведения как «Гаврилиада» и «Андрей Шенье», и Пушкин расстроился и поэтому написал «Анчар». Но это уже какие-то современные сайты с программами подготовки к ЕГЭ. Пожалуй, самое сомнительное в анчароведении для меня — это попытка привязать эту историю к полемике с Катениным. Кажется, она не очень привязывается к полемике с Катениным, увы. Это когда-то Виктор Владимирович Виноградов придумал, что Пушкин полемически отвечает своему старому знакомцу, поэту Катенину, «Анчаром». Кажется, совершенно не отвечает. Прекрасно все это описывается и без полемики с Катениным.
Нам хочется это вписать в контекст 1828 года. Дмитрий Дмитриевич Благой, один из анчароведов прошлого, тоже написавший довольно осмысленную статью, замечает, что Пушкин нащупывает эту тему, первый набросок — это, собственно говоря, два слова. Одно слово по латыни написано, другое слово написано русскими буквами. Одно слово — это название этого дерева в источниках, о которых нам, я надеюсь, расскажет Александр Алексеевич, — «upas», — а второе слово, которое Пушкин нащупывает, это слово «анчар». И Благой рассуждает о том, что там есть совершенно определенная фоносемантическая мотивировка, связывающая это слово с чем-то черным, мрачным, с чарами и т.д. Я не понимаю, почему упущено слово, которое было на слуху у читателей 1828 года в связи с русско-турецкой войной, слово просто прямо созвучное, слово явно Пушкину нравившееся, уже использованное им в «Вольности» (или в «Свободе», как вам больше нравится) — слово «янычар». Янычаров в Турции в это время разогнали, но о них постоянно все вспоминают. Янычары, напоминаю, в «Вольности» у Пушкина — это некоторая такая абсолютная жестокость и абсолютное зло. Там есть еще дополнительная такая прививка восточного колорита.
Пушкин же сознательно точно не локазизует действие. Он пробует разные варианты, один раз у него даже «под небом Африки» стоит этот «анчар, феномен роковой». Но потом остаются только степи. Конечно, такая восточно-фонетическая прививка за счет соседства с янычарами здесь возникает.
Есть у меня еще некоторые дополнительные рассуждения, но я их сейчас не стану высказывать, а просто передам слово Александру Алексеевичу Долинину сначала, а потом Алине Сергеевне Бодровой.
Долинин: Мы начнем с источников «Анчара». Мы с Алиной Сергеевной выступаем парным конферансом сегодня. Источники «Анчара» установить и легко, и очень сложно. Во всяком случае, мы знаем, кто придумал легенду об анчаре. Она возникает рано, но не очень рань — в 1783 г., мы можем назвать точно. В декабре 1783 года лондонский журнал, который так и назывался: «The London Magazine» в разделе «Естественная история» («Natural history») публикует сенсационный материал: описание ядовитого дерева на острове Ява, переведенное, как там сказано в заголовке, с оригинального голландского неким мистером Хейдингером. Такого человека в Лондоне того времени не было, это чей-то псевдоним. И там рассказывалась совершенно феноменальная история. Этот N.P. Foersch (или Фурш, как его фамилию обычно передают на русском) рассказал, что на острове Ява в долине, окруженной холмами, растет ужасное дерево, которое местные жители называют «Bohon Upas» («Bohon» значит «дерево», а «upas» на малайских языках значит «ядовитый», то есть это и есть «ядовитое дерево», его потом так по-английски и будут называть, просто upas), вокруг которого в радиусе 10-12 миль земля совершенно выжжена, пустынна, бесплодна, на ней ничего не растет: ни травинки, ни былинки, все сожжено ядом этого дерева, а земля вокруг покрыта трупами. Трупами животных, которые забежали в эту «зону» (такой «Сталкер») либо трупами людей, которые пытались к этому дереву пробраться. Люди эти, согласно Фуршу, — приговоренные к казни преступники, которых султан Явы посылал с целью добыть яд, ядовитую смолу этого дерева, в которой очень хорошо обмакивать стрелы и пускать эти «послушливые стрелы» «непокорным соседям». Преступникам, которые уже были приговорены к смертной казни, давался шанс выжить, если они принесут соответствующую склянку с ядом. По сообщению Фурша, двое из двадцати посланных к дереву благополучно возвращались. Восемнадцать, соответственно, нет.
На расстоянии уже 18 миль, — в другом месте Фурш пишет, — нет ничего живого: нет рыбы в реке, птицы падают замертво, как только попадают в поле действия этого ботанического оружия массового поражения (хорошо, что оно неподвижное). Сам Фурш рассказывает о том, как султан использует этот яд (он очень дорого ценится), он якобы присутствовал при казни тринадцати (!) наложниц из гарема султана, которых уличили в неверности. Сразу тринадцать были неверны султану, и их казнили публично: раздели до пояса, и в их прекрасные груди вонзили ланцет или специальную какую-то иглу с этим ядом, и они через две минуты все замертво попадали и на глазах у изумленной публики скончались.
Это сообщение конечно произвело сенсацию немыслимую, и на протяжении тридцати-сорока лет его печатали, перепечатывали в изложениях или полностью в различных журналах, альманахах, переводили на все европейские языки, в книгах по географии и ботанике, в антологиях, в массе детских книг и разных… то, что мы сейчас называем, научно-популярных изданий тоже для юношества.
Первый русский перевод этого текста Фурша был опубликован в журнале «Детское чтение для сердца и разума», который издавал Новиков, и который перепечатывался и в других местах полностью или частично. Уже недавно — то, что не попало в мой комментарий к «Анчару» в нашем с Алиной издании стихотворений Пушкина и «Северных цветов», — я нашел еще две русские книжки, в которых полностью был напечатан этот перевод Фурша, обе 1814 года, когда Пушкин был в лицее, и он вполне мог их читать, особенно одну: она называлась «Бюффон для юношества, или сокращенная история трех царств природы». Это пятитомное издание, ее написал француз Пьер Бланшар, заголовок «для молодых людей обоего пола», она была переведена с французского. И там как раз полностью воспроизведена в неплохом русском переводе вся эта легенда об анчаре этого самого Фурша. И второе — это справочник, «Новый полный и любопытный практический эконом, объясняющий все предметы, нужные и полезные в общежитии и домоводстве». Такой справочник, где обо всем понемногу написано. Статья там есть: «О богонупасе, ядовитом растении». Это то же самое сообщение Фурша. Следующая статья в этом справочнике — «О чернике», а предыдущая — «О рвотных растениях». Там помещается тоже вся эта история.
С самого начала, конечно, эта легенда была подвергнута сомнению. Даже в самой публикации лондонского журнала, — вернее, в предисловии к этой публикации, — уже было сказано, что вообще-то многие подумают, что ей не место в разделе natural history (естественная история), а место в разделе «Чудесное» или «Сказочное», но тем не менее они ее печатают, потому что свидетельство очень убедительное и интересное, и обличает тиранию (вот что самое важное с точки зрения London Magazine). Но при этом его сравнивали с знаменитой в Англии книгой человека, известного под псевдонимом «Псалманазар», который в 1805 году издал описание острова Формоза (или Тайвань по-нашему), о котором ничего не было известно тогда в Европе; где он рассказал, какие люди там живут, какие у них обычаи, какие жуткие нравы, даже привел словарь с транскрипцией, произношение, все это там было. Потом выяснилось, что там не было ни слова правды, он на Тайване никогда не был, вообще не путешествовал, а все это было сделано для того, чтобы обличить католических миссионеров, которые, по его мнению, творят ужасные дела на Формозе. Но сначала это приняли тоже за чистую монету, хотя Академия наук обсуждала книгу Псалманазара, и так к окончательному выводу и не пришли, пока сам Псалманазар не обратился в католичество, которое он так критиковал, и его совесть замучила и он сам признался, что он все выдумал.
Так что в XVIII веке вообще таких историй было очень много. И сначала даже эту историю Фурша приписывали англичанину Джорджу Стивенсу, комментатору Шекспира, который был известен своей ученостью и своим низким представлениями о роде человеческом. Он считал, что род человеческий на 80% состоит из идиотов, которым можно внушить все что угодно, поэтому он придумывал разные истории (в том числе ему приписывается рассказ о том, как на глазах у путешественника, тоже как бы очевидца, анаконда сожрала тигра, целого тигра заглотнула и переварила тут же, на глазах у изумленного путешественника; и другие истории). Но теперь выяснилось, что таки Фурш существовал. Хотя о нем много неизвестно. Потому что нашлось письмо в архиве президента Королевского научного общества, — сэра Джозефа Бэнкса, в котором помощник капитана английского военного корабля сообщал, что у них на корабле служит корабельным врачом некий Фурш (или Фёрш), немец по происхождению (никакой не голландец), который раньше служил на Яве врачом и который утверждает, что он близкий друг этого Бэнкса и что Бэнкс заказал ему написать книгу об острове Яве. И он, видимо, объявляет подписку на эту книгу. Видимо, он хотел из таких историй, как история об анчаре, составить целую книгу. Бэнкс ответил, что он с этим Фуршем толком не знаком, но ему о нем рассказывали, и он действительно дал сколько-то шиллингов на издание этой книги, потому что подумал, что оно будет полезно для науки.
Вот, собственно, вся история. И хотя все подозревали, что это вымысел, легенда, но тем не менее она жила и живет. И ее опровергали. Опровергали ее ученые разных стран: Голландии; в Германии была целая книга опровержений истории; все это продолжалось много лет, пока американский естествоиспытатель, работавший тоже на Яве, Т. Хорсфилд, не провел исследование и не нашел соответствующее дерево, которое оказалось слабо ядовитым, к нему можно подходить без всякого страха. Местные действительно добывают его смолу, которую они смешивают еще с какими-то ядовитыми веществами, в которые обмакивают стрелы. Вот и все. То есть история сама имеет два варианта: легендарный — Фурша, об upas tree, и научный, который ведет начало от исследований Хорсфилда.
Собственно говоря, Пушкин наверняка знал оба. Он наверняка читал какие-то переложения Фурша. Это было очень легко: по-французски, по-английски — он как раз в 1828 году начинал как следует заниматься и читать по-английски. Наверняка читал и опровержения, потому что эта запись, которую уже сказал Роман Григорьевич, которую покажет Алина, «upas-анчар», как раз это как бы сопоставление двух версий одной и той же истории — легендарной и реальной, мифической и реалистической. И Пушкин из сопоставления этих двух версий и создал это стихотворение.
Возможно, он видел еще какие-то иллюстрации. Вот опять таки чудная иллюстрация, которую я всем рекомендую посмотреть. На ней все есть: вот анчар, вот трупы лежат, вот — обратите внимание — человек в маске, это наш предшественник, можно сказать, он-таки понимает, как можно охранять себя от яда. Тот, кто без маски, — он уже труп, это вполне, значит, современная картинка. И вот тут птица одна лежит у подножья анчара, другая падает уже, и кто-то пытается убежать справа.
Лейбов: То есть это такие глупая птица и глупый тигр, в отличие от пушкинских, которые нормальные.
Долинин: Да, это отмечалось. Это первый, по-моему, Александр Слонимский отметил, что Пушкин знал эту легенду, но он как бы сделал ее более реалистичной, потому что у него все-таки животные. Но у Пушкина в черновиках все время появлялся тигр, забежавший к анчару, и орел. Была такая строфа:
И тигр, в пустыню забежав,
В мученьях быстрых издыхает;
Паря над ней, орел стремглав,
Кружась, безжизненный спадает.
То есть Пушкин просто описывал эту самую картинку. И тигр тут, забежавший случайно к анчару, и орел, все это есть.
Подробности, наверное, больше не нужны, но этого достаточно, чтобы понять, откуда произрастает пушкинское стихотворение. Теперь Алина нам расскажет про само стихотворение.
Лейбов: Если можно, я воткнусь тоже. Тут интересна еще такая история, что это один из ранних случаев использования очень архаических мифологических мотивов в таком квази-научном повествовании. Мы знаем легенду о смертельных урановых рудниках, которая просто повторяет сюжет пушкинского анчара. Интересно:, в фольклоре местных народов не распространен ли этот сюжет. Это исследовали, да, специально?
Долинин: Да, исследовали, и ничего…
Лейбов: Антропологи смотрели на это?
Долинин: ...Нет, нет, нет, это такое создание современного мифа (в XVIII веке их довольно много), которые должны были быть похожи на нечто научно вероятное или возможное. Это та самая новая мифология, о которой писали немецкие романтики, которая должна была бы быть более правдоподобной. Но анчар тоже — можно сравнить его с драконом, с кем угодно, с гидрой. Поэт Эразм Дарвин (о котором я не говорил, хотя это еще один возможный источник Пушкина), написавший огромную описательную поэму про растения мира, там сразу сравнил анчар — он был под впечатлением, конечно, легенды Фурша, и хотя он знал, наверное, или догадывался, что это вранье, что это небылица, но тем не менее она ему так понравилась, что он написал большой кусок про анчар. Он вошел в хрестоматии, в антологии, Пушкин его, вероятно, знал. Он переводился на французский язык. Во французском издании была вся история анчара: статья Фурша, опровержения, все это было. Тем не менее, он купился на это.
Лейбов: Ну или захотел.
Долинин: Да-да. Потому что эта новая мифология, которая рождалась тогда, в XVIII веке, на глазах. Если уж я заговорил, Роман Григорьевич, одно уточнение к вашей замечательной идее насчет янычара. Это уже высказывалось в свое время в ответ Благому, стиховед Тимофеев в 1950-е гг.
Лейбов: Спасибо большое. Алина Сергеевна.
Бодрова: Да, я тогда буду тоже продолжать линию, начатую Александром Алексеевичем и отчасти, Роман, Вами тоже. Здесь пока вы можете видеть пушкинскую запись «upas — анчар», которая сделана в одном из черновиков, и вот тоже одна из иллюстраций, изображающая анчар, но не такая прекрасная, как у Александра Алексеевича. Я бы тоже хотела продолжить контекстуализующую историю и попробовать показать, как этот текст функционировал, какова была его издательская история, потому что она повлияла на интерпретации «Анчара» и влияет на них вплоть до сегодняшнего дня.
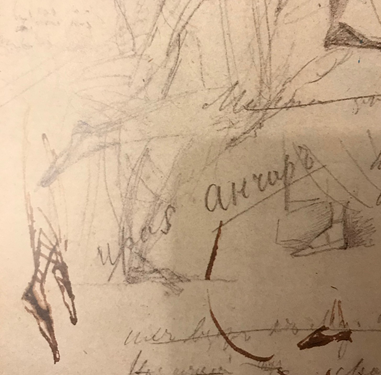
Здесь мы имеем дело с некоторой загадкой. Много говорилось про контекст 1828 года — текст написан скорее всего в Малинниках, что давало основания связывать этот сюжет с размышлениями о Катенине и так далее. Мы видим, что у Пушкина было много источников, на которые он мог опереться. Вопрос состоит в том, почему Пушкин не опубликовал этот почти законченный, как свидетельствуют черновики, текст тогда, когда он был написан. Публикация была отложена, и впервые «Анчар» был напечатан только в альманахе «Северные цветы» на 1832 год. Это альманах особенный, потому что это был первый выпуск альманаха, который делал сам Пушкин. Вообще (я думаю, что всем это известно), альманах был основан ближайшим пушкинским другом Дельвигом в 1825 году, выпускался в течение долгого времени, и успешная книгоиздательская задача была прервана безвременной смертью Дельвига в начале 1831 года. В память об умершем друге Пушкин решает, что он попытается издать продолжение альманаха на 1832 год.
Тут еще тоже надо помнить, что для Пушкина это было сложное время, хотя и очень счастливое: он только что женился. Но при этом у него у самого еще не было толком издательского опыта. Он разве что участвовал в «Московском вестнике», участвовал в издании «Литературной газеты», но сам как такой единовластный, что ли, издатель не выступал — и вот он пытается организовать эти самые «Северные цветы», пусть и при помощи Сомова и Плетнева. Но 1831 год — мы теперь это чувствуем гораздо лучше — это еще и эпидемия холеры, осложняющая и коммуникации, и почтовую пересылку, и вообще жизнь. В этих условиях Пушкин трудно и довольно долго, вплоть до осени, собирает этот самый альманах.
Если посмотреть на структуру текстов, которые Пушкин там печатает, то «Анчар» встраивается, как мне кажется, в две важные истории. С одной стороны, это тема яда и тема мирового зла, о которых Александр Алексеевич еще, наверное, тоже скажет. Универсальное значение этой темы, которое она приобретает у Пушкина, может перекликаться с «Моцартом и Сальери» — собственно, с центральным мотивом отравления. С другой стороны, это тема «мифов Нового времени», о которой уже сказал Александр Алексеевич. Она перекликается с другими текстами, вошедшими в альманах: это так называемые «Анфологические эпиграммы», где описывается, например, Ломоносов (стихотворение «Отрок»), статуя в Царском селе («Царскосельская статуя»). В этих текстах Пушкин как бы создает новые мифы, о чем-то новом, таком, чего не было в античности, в древней мифологии. И «Анчар» тоже встраивается в эту новую мифологическую историю.
Но в случае с текстом «Анчара» публикация в «Северных цветах» была только началом довольно интересного издательского пути этого стихотворения. Здесь я прошу обратить внимание на то, в каком виде была напечатана последняя строфа этого стихотворения: кто оказывается пользователем этого мерзкого и убийственного яда? — Это «Царь».
Дальше проходит немного времени, и в начале февраля 1832 года Пушкин выпускает очень странное издание, отдельный оттиск текстов из «Северных цветов» — брошюрку, в которой собирает все стихи, которые он поместил в альманахе: там «Моцарт и Сальери» и еще девять стихотворений. От этого издания сохранилось три экземпляра всего, по описаниям известны еще два. И тот факт, что в этом издании был напечатан «Анчар», а от издания практически ничего не осталось, заставлял исследователей подозревать какую-нибудь политическую историю. И для этого действительно были некоторые основания. Почему? — Потому что еще чуть позже, в марте 1832 года, выходит очередное переиздание стихотворения «Анчар» — на сей раз в составе Третьей части «Стихотворений Александра Пушкина». Здесь мы уже видим интересные преобразования, коснувшиеся текста. Во-первых, посылает стрелы не «Царь», а «князь». Кроме того, изменено заглавие. Если в предыдущих версиях «Анчар, древо яда» — это единое заглавие, то в «Стихотворениях» 1832 года «Анчар» — отдельно, а «древо яда» — стало примечанием, и добавилась дата — «1828».
Тут, конечно, начинает возникать вопрос, а что же случилось. И здесь тоже все довольно интересно. Сохранилась переписка Пушкина с III Отделением и его начальником А. Х. Бенкендорфом. Бенкендорфу стихотворение «Анчар», по всей видимости, не понравилось: 7 февраля 1832 года, когда уже вышел альманах и была почти готова брошюрка [«Стихотворения из Северных цветов»], Бенкендорф пишет Пушкину, требует от него объяснения, «по какому случаю помещены в изданном на сей 1832 год альманахе под названием Северные Цветы некоторые стихотворения его, и между прочим Анчар, древо яда, без предварительного испрошения на напечатание оных высочайшего дозволения». Почему Бенкендорф про это спрашивает? — Все, наверное, помнят, что по возвращении Пушкина из ссылки Николай I встречался с ним и сказал, что будет его цензором. И действительно, в течение долгого времени Пушкин получал разрешение на публикацию своих текстов «с дозволения правительства». Многие его произведения напечатаны таким образом. Но при этом Пушкин справедливо полагал, что это не отменяло возможности подавать тексты в обыкновенную цензуру. И когда Пушкин прочел письмо Бенкендорфа, он ужасно переполошился и подумал, что сейчас ему скажут, что он должен не только в обыкновенную цензуру тексты подавать, но и уже одобренные еще раз представлять в III Отделение. Это ему показалось очень странным, и он явно не понимал, в чем непорядок с этим самым стихотворением.
Потом известно, что 10 февраля они встречались с Бенкендорфом, и тут Пушкин тоже был поражен тем, что ему сообщили. Об этих чувствах мы узнаем из черновика пушкинского письмо Бенкендорфу, которое он, по счастью, не отправил. Но там Пушкин объясняет, как ему не нравится вот эта история — что его хотят запихнуть под две цензуры. Здесь мы видим наконец причину его недоумения: как он вообще сможет что-нибудь печатать, если цензура будет «находить везде тайные применения», а «обвинения в применениях и подразумениях не имеют ни границ, ни оправданий, если под слов<ом> дерево будут разуметь конституцию, а под словом стрела самодержавие»? Хотя само стихотворение Пушкиным не названо, но упоминание стрелы и дерева, конечно, не оставляет никаких сомнений в том, что речь идет именно об «Анчаре». И тут возникает вопрос: каким образом умудрились прочесть это стихотворение Бенкендорф и император Николай Павлович, что настолько возмутились, и почему они его так прочли?
Советские исследователи, в том числе уже упоминавшийся Д. Д. Благой и многие другие, пытались на этом основании утверждать, что Николай I и Бенкендорф сочли Пушкина противником самодержавия, проповедующим свободу и так далее. Но в этом случае исключительно странно, что они не запретили публикацию этого стихотворения вовсе и что тот вариант, который Пушкин в итоге напечатал в Третьей части своих «Стихотворений», их устроил. Ясно, что советское прочтение и особенно его приписывание Бенкендорфу и Николаю I несправедливо. Но что же могло их насторожить, что могло их смутить в этом стихотворении?
Здесь нам важно учесть ближайший исторический и политический контекст. Помимо эпидемии холеры, 1831 год был знаменит Польским восстанием и его жестоким подавлением русскими войсками. Таким образом, на историю с Польским восстанием наложилась эпидемия холеры, и в публицистике этого времени разные стороны пытались приписать использование «бактериологического оружия» своим противникам. Польские пропагандисты и поддерживающие их европейские страны считали, что это Николай Павлович использует «бактериологическое оружие» и распространяет холеру по Польше. А с другой стороны русские обвиняли поляков в том, что они отравляют колодцы и хотят погубить при помощи холеры русских солдат. В нашем случае более важна условно польская точка зрения, поддержанная многими европейскими странами. Эпидемия холеры, наложившаяся на жестокое подавление Польского восстания, заставила уподоблять Россию чему-то ядовитому, в прямом смысле токсичному, и сравнение России с ядовитым деревом было общим местом в европейской публицистике. Эти источники в свое время обнаружил Александр Алексеевич Долинин, я только их пересказываю и цитирую. Наиболее ярким в этом отношении примером оказывается стихотворение английского поэта Томаса Кэмпбелла «The Power of Russia» (производящее впечатление и очень современно читающееся), где Россия уподоблена смертоносному упасу-анчару («that Upas tree of power»).
И если представить себя на месте Бенкендорфа и Николая Павловича, то что же получается? Получается, что Пушкин, сочиняя «Анчар», как бы присоединяется к этой европейской точке зрения и показывает русское самодержавие как страшно токсичное, ядовитое и так далее! Но самому Пушкину ни в 1828 году, ни, видимо, в конце 1831 года, когда готовились публикации «Анчара», эти ассоциации не приходили в голову. И когда недоумение разъяснилось, он легко сумел преодолеть недовольство императора. Дело разрешилось минимальными поправками. Пушкин убрал этого неприятного, двусмысленного «Царя» и заменил на «князя» (может быть, подразумевая аллюзию на князя Адама Чарторыйского, который был одним из возглавлявших польское правительство), а поместив дату «1828 год», он сумел хронологически уйти от неприятно подразумевавшегося польского сюжета.
Лейбов: Спасибо, Алина Сергеевна.
Прежде чем передать Александру Алексеевичу, одно буквально слово. Вне зависимости от злободневных политических применений — естественнонаучно: холера действительно распространяется с Востока на Запад в Новое время. Мы знаем точно, как она распространяется: через порты, Каспийское, Черное море, потом наверх по рекам и так, значит, до европейской части России, а дальше уже во время военной кампании, наверное, и на Запад тоже. Но Николай Павлович явно не использовал холеру как бактериологическое оружие против инсургентов.
Пожалуйста, Александр Алексеевич, еще раз.
Долинин: Я постараюсь очень коротко как раз показать, что Пушкин не имел в виду никаких конкретных политических применений, а рассматривал именно сюжет «Анчара» — или два сюжета «Анчара» — и сам образ анчара как некий универсальный образ и универсальный сюжет. Во-первых — уже говорили об этом — важно, что нет никакой конкретной географической локализации у Пушкина. Во всех других версиях — и поэтических, и публицистических — она есть. Саути поместил Upas-tree в Африку. Видимо, когда он писал вот эту уже тоже цитированную строчку «Природа Африки моей / Его в день гнева породила», он отталкивался от Саути. Тогда «тигр» получается... тигр — это чисто азиатский, там тигра никак нельзя вставить. Ну и так далее. Значит, никакой у Пушкина нет вообще, никакой географической локализации, ничто не указывает ни на Яву, ни на Африку, «жаждущие степи» могут быть где угодно. Где угодно: хоть в Африке, или в России, или в Российской империи, на которую, между прочим, намекает слегка слово «лыки». Это чисто русская история, это чисто русское дерево липа, из которого на лапти и корзины дерут лыки. Удивительное. До Пушкина, по-моему, только у Крылова в одной басне встречалась это слово в русской поэзии.
Так что, если мы посмотрим на первую же строфу, на сравнение: «Анчар, как грозный часовой, / Стоит — один во всей вселенной», вот это подчеркнуто: «один», уникальность, единичность этого явления — это опять-таки мифологическая особенность. В мифе все должно быть единичным. Здесь под этим «часовой» еще подразумевается, конечно, ветхозаветный образ часового, херувима, поставленного у входа в рай после изгнания Адама и Евы. «...поставил <...> у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». То есть сам образ у Пушкина: анчар назван «древо смерти». То есть сам образ древа смерти имеет библейские коннотации, безусловно: это противопоставление древу жизни. Теперь, что есть древо жизни и что есть древо смерти в Библии? Древо смерти — это, как известно, древо познания добра и зла, от него исходит смерть. Немощи, болезни страдания, смерть — это ветви древа смерти. Это я цитирую одну из проповедей XVIII века. Это древо смерти. Отсюда и первородный грех. Анчар — родственник, если угодно, этого древа смерти. А древо жизни в раю тоже растет. Потому что Адама и Еву выгнали из рая для того, чтобы они не вкусили от древа жизни и не получили бессмертие: древо жизни дает бессмертие, древо смерти дает смерть. Соответственно, Анчар — это такой библейский образ, туда ведущий.
Значит, время. Время тоже никак, историческое время никак не устанавливается у Пушкина. Когда это произошло? Фурш говорит: лет сто назад возник, вырос этот анчар, впервые. У Пушкина это непонятно когда. Что обозначает время в «Анчаре»? Словосочетание «день гнева». Что такое День гнева? День гнева — это Dies Irae всем известный. Dies Irae — средневековый гимн и начало одной из секций Реквиема. И это день Страшного суда. В Библии словосочетание «день гнева» встречается у малого пророка Софонии. Процитирую: «День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. <...> Ни серебро их, ни золото их не сможет спасти [человека] в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли». Тотальное уничтожение — вот этот День гнева. День гнева относится в будущее: это день Страшного суда. У Пушкина это день прошлый: где-то в прошлом произошло, как бы до истории. День гнева библейский — это конец истории. День гнева у Пушкина — это до истории, это доисторическое время; историческое время еще не началось. Отсюда эта неопределенная и географическая, и временная локализация. То есть это универсальное зло; это зло есть всегда в человеческой жизни, а история начинается потом.
А история начинается, видимо, когда «князь» или «царь» или кто угодно находит способ, чтобы природное зло (которое есть всегда, это следствие первородного греха) каким-то образом использовать для своих нужд. То есть природное зло преобразуется в зло человеческое. Вот, собственно, это — очень кратко и сжато — как я понимаю, и есть смысл стихотворения.
Лейбов: Спасибо большое.
У нас есть вопрос от Валерия Мерлина: «Не отозвался ли "алчный анчар" у Хлебникова?» Господь его ведает, Хлебникова! Я бы не стал за него ручаться, отозвался или не отозвался.
Я позволю себе вот что еще, вернувшись к своей педагогической теме. Есть один текст, педагогический текст как раз из этой серии, который, по-моему, идеален для изучения «Анчара» в школе. Я его всячески рекомендую. Это отрывок из «Методического пособия для преподавания литературного чтения в эстонской школе» авторства Юрия Михайловича Лотмана. Он воспроизведен в томе конца прошлого века, петербургский том собрания сочинений Лотмана, который называется «О поэтах и поэзии». Вот там вот вы его легко найдете, пираты его давно уже как-то попятили и всюду распространяют (спасибо пиратам!). И это совершенно прекрасный текст, действительно, он очень краткий и очень красивый. Он подчинен логике школьного преподавания, а логика школьного преподавания — особенно если речь идет не об историческом курсе, а именно о курсе вроде литературного чтения — это такая логика преподавания на образцах. И там есть такой особый монтажный ход, который придумал Лотман: он монтирует разбор «Анчара» с разбором «Вакхической песни». Для того, чтобы как раз продемонстрировать контрастность двух миров.
Другой хрестоматийный текст, который с моей точки зрения тоже очень хорошо бы монтировался с «Анчаром» и который напомнил Александр Алексеевич скрыто, — это «Пророк», где в экспозиции мы встречаемся с тем же пейзажем, но сталкиваемся с совершенно другим сюжетом: это сюжет тотальной коммуникации и обретения некоторого сверхъязыка. Если вы посмотрите на «Анчар», на черновики «Анчара», вы увидите, как Пушкин просто вытаскивает, вытравливают во второй части все коммуникативные глаголы. В результате «взглядом» посылает владыка раба. А раб вместо того, чтобы издавать какие-то вопли, как в черновиках это происходит,не произносит ни звука. И мы имеем дело в общем и в том и другом случае, конечно, с рефлексиями разных вариантов одической традиции: одической духовной традицией в случае с «Пророком» и большой одической традицией торжественной оды. Я не случайно вспоминал про «янычара». На самом деле «янычары» (с другим ударением: янЫчары) встречаются рядом с «тиграми» в первой же русской торжественной оде. Это Хотинская ода Ломоносова. И это продолжает то, что Мария говорила о «Медном всаднике». Если вы вытащите из государственной риторики все, что связано с человечностью и осмысленностью, и оставите там только кровожадность, которой торжественная ода вполне предается, то вы получите вот такой обессмысленный мир «нового мифа», о котором говорил Александр Алексеевич. С одной стороны — онтологический миф о том, что всегда есть, а с другой стороны — вот этот миф первопроисхождения социального зла.
Спасибо. Я передаю сейчас слово Ирине Владимировне.
Лукьянова: Так. Мне вот слово теперь очень трудно держать, потому что практически все, что я собиралась сказать, только что сказал Александр Алексеевич, и сказал это гораздо лучше, чем сказала бы я.
Поскольку я тут как учитель, то я бы, наверное, и говорила о том, как в школе традиционно работали с этим стихотворением и как с ним работают сейчас. Я посмотрела несколько доступных учителям планов уроков, то, что коллеги выкладывают. Как совершенно справедливо сказали в самом начале нашей сегодняшней встречи, «Анчар» сам себя анализирует, наговорить про него глупостей довольно трудно. То есть глупости, конечно, встречаются: «а давайте-ка мы все с вами, дети, дружно проинтерпретируем, что означает прилагательное «скупой», что означает эпитет «чахлой», и дальше по всем эпитетам вот так давайте истолкуем». Ну, в принципе, как часть какой-то работы это, может быть, и осмысленно, но как самоцельное задание — совершенно бессмысленно.
Но начать я, конечно, хотела не с этого, а с того, что ровно после того, как меня пригласили на сегодняшние «Сильные тексты», я прочитала в фейсбуке у критика Елены Иваницкой замечательное рассуждение про «Анчар». Она говорила там о том, что в нашем детстве «Анчар» входил в школьную программу исключительно как социальное стихотворение, как социально-политическая лирика, отчасти, может быть, спровоцированное созвучием «но человека человек» со строчкой «эксплуатация человека человеком». Что это действительно было стихотворение о природе власти, о смертоносной природе власти, о деспотизме и традиционно, действительно, рассматривалось в контексте свободолюбивой лирики Пушкина. Дальше пишет Иваницкая: для меня это всегда было стихотворение о смерти. Потому что и «бедный раб», который надышался паров этого дерева и принес эту ветвь, умер. И, видимо (за пределами, за рамками стихотворения) умерли те, кто напитывал ядом стрелы. Умерли те, куда эти стрелы разослали. То есть это стихотворение о распространяющейся и всеобъемлющей смерти.
Для меня, конечно, это стихотворение философское. И здесь я бы, наверное, с детьми прежде всего работала, как предлагают многие коллеги, с черновиками Пушкина. Где мы бы наверное смотрели, почему в черновиках тигр умирает и орел падает, как это нам было показано на картинке, а в заключительном варианте стихотворения они обходят это дерево — и всё стремится его обойти, всё живое стремится его избегнуть, и только человека человек туда посылает. Причем «человека человек» — это ведь тоже часть природы: они совершенно равные друг другу биологические существа. Почему же один подчиняется, другой — нет, почему все идет против природы?..
Как Пушкин работает с коммуникативными моментами. «Послал властным взглядом», «послал властным словом», «послал равнодушно» — все меньше и меньше коммуникации, и в конце концов, действительно, только взгляд остается посылающий. Взгляд, которому раб повинуется. «Смелый раб», «верный раб», который отправился в путь «безумно», «бесстрашно», «отважно». И вернулся «смелый раб», и лег он «испуская крики», «и умер смелый раб у ног / непобедимого владыки». Как «смелый раб» перестает «испускать крики», как он превращается в «бедного раба», с чем это связано. Мне кажется, дети как раз очень хорошо способны это проанализировать, прекрасно способны это увидеть и разглядеть вот это самое «древо смерти» и разглядеть два полюса стихотворения. Те полюса, о которых говорит Дэвид Бетеа: на одном стоит дерево смерти «как грозный часовой», на другом стоит царь. Он обращает здесь внимание на созвучие «анчар» и «а царь». На одном полюсе «анчар», на другом «а царь» — два грозных часовых, две такие твердыни зла, которые «стоят во всей вселенной». Но природа изолирует зло: к нему не подходит тигр, на него не садится птица. Зло разносит человек. Конечно, это история о смертоубийственной... о смертоносности человеческой природы, о способности угнетать себе подобных и нести гибель соседям. Опять же: у Пушкина в черновиках было сначала «враги», потом «враги» превратились в «соседей». То есть можно, наверное, здесь говорить о том, как это первоначальное, более простое социальное истолкование (природа власти) превращается в историю о человеческой природе и о мировом зле. Наверное, так.
Лейбов: Мы почти что не вылезли за пределы регламента! И я предоставляю слово Вячеславу Попову, который закрывает наше обсуждение сегодня.
Попов: Я могу только поблагодарить прекрасных докладчиков, которые предшествовали мне, потому что как Александр Алексеевич, так и Ирина, в общем, сказали с избытком все, над чем я, так сказать, потрудился. Потому что действительно… Меня в тексте «Анчара»… Мне пришла в голову такая идея, что там довольно много содержится каких-то несовершенств мелких логических, каких-то тавтологий, мнимых или реальных нестыковок, которые привлекают к нему, завладтевают нашим вниманием и не отпускают… Что суггестия этого текста возникает от того, что мы не понимаем, зачем «пустыне» быть «чахлой и скупой» и начинаем задумываться, не характеристика ли это скорее не физико-географическая, а политико-географическая, то есть пустыней мы называем это место, собственно говоря, с точки зрения его населенности, а не озелененности, и так далее. Или, соответственно, говорится о «мертвой зелени ветвей», а при этом они полны своеобразной вот этой жизнесмерти, антижизни. То есть когда говорится, что эта зелень «напоена ядом», то возникает вопрос: а что же дальше происходит, какова физиология и анатомия этого страшного дерева, нет ли там некоего замкнутого цикла, по которому оно гоняет этот страшный яд, периодически позволяя «дерзкому и обреченному» толику этого яда унести с собой с какой-то целью — возможно, с целью распространить свою власть, «подсадить» на себя, как на наркотик, поскольку суггестия анчара безусловна и мощна. И нет ли специфике этой коммуникации дерева с ему подвластными существами вот этой определенной безмолвной телепатии: они, минуя вторую знаковую систему, общаются, послушно влекутся в поле действия его инвольтаций и всего прочего.
Соответственно, эти смысловые сдвиги, нарочитые противоречия и как бы нестыковки наделяют текст способностью вызывать желание постоянно к нему возвращаться, дообосновывать, достыковывать. И тем самым он превращается как текст в подобие, собственно говоря, этого страшного дерева, которое тебя не отпускает и в известном смысле опустошает.
И опять-таки мне по нескольким совершенно поверхностным — но я позволю себе быть не филологом, а поэтом, поэтому отчасти бессвязным — по некоторым лексическим совпадениям… мне пришла в голову идея, что «Анчар» — это как бы такой анти-«Памятник», особенно если к горацианскому субстрату возвращаться, брать эту топику... там есть и едкий дождь, и вихрь, и вот эта его некоторая вечность, неуничтожимость, сходство пустынного ландшафта, в котором все это дело происходит, скудость водой и все прочее, и вот эти коммуникативные какие-то моменты, паломничество, которые есть там и там, но они противоположным образом окрашены. В общем, я это, так сказать, оставляю…
А больше всего я дорожу вот какой идеей, которую хочу как чтец проиллюстрировать, если у меня есть несколько минут. Есть, как мне кажется, такая неявная литературная традиция «обеления анчара»: воспевать его, выдавая его нашим читателям под маской других деревьев. Вот, например, у двух поэтов — у Фета и у Заболоцкого — есть «замаскированные анчары», которые наделяются некоторыми новыми, уже совершенно позитивными свойствами. И это у них одно и то же дерево — это одинокий дуб.
У Заболоцкого это стихотворение звучит так:
Дурная почва: слишком узловат
И этот дуб, и нет великолепья
В его ветвях. Какие-то отрепья
Торчат на нем и глухо шелестят.
Но скрученные намертво суставы
Он так развил, что, кажется, ударь —
И запоет он колоколом славы,
И из ствола закапает янтарь.
Вглядись в него: он важен и спокоен
Среди своих безжизненных равнин.
Кто говорит, что в поле он не воин?
Он воин в поле, даже и один.
Вот. «Во всей вселенной», — добавил бы я от себя.
Стихотворение Фета — там другую, как раз коммуникативную и как бы распространительную идею продолжает:
Смотри, — синея друг за другом,
Каким широким полукругом
Уходят правнуки твои!
Зачем же тенью благотворной
Всё кружишь ты, старик упорный,
По рубежам родной земли?
Когда ж неведомым страданьям,
Когда жестоким испытаньям
Придет медлительный конец?
Иль вечно понапрасну годы
Рукой суровой непогоды
Упрямый щиплют твой венец?
И под изрытою корою
Ты полон силой молодою.
Так старый витязь, сверстник твой,
Не остывал душой с годами
Под иззубренною мечами,
Давно заржавленной броней.
Всё дальше, дальше с каждым годом
Вокруг тебя незримым ходом
Ползёт простор твоих корней,
И, в их кривые промежутки
Гнездясь, с пригорка незабудки
Глядят смелее в даль степей.
Когда же, вод взломав оковы,
Весенний ветр несет в дубровы
Твои поблеклые листы,
С ним вести на простор широкий,
Что жив их пращур одинокий,
Ко внукам посылаешь ты.
«И стрелы разослал» — там. А в данном случае листья. Ну, как бы все!
Лейбов: Спасибо. Мы не станем сейчас обсуждать — богатая идея! — не удалить ли нам «Анчар» вообще из школьной программы, коли он так нехорошо влияет на всех.
Лекманов: Экспансивен!
Лейбов: Инвазивный вид, ага. Нет, я думаю, что мы все-таки его пока оставим, да?..
Лекманов: Оставим.
Лейбов: Мы с Олегом пока решили оставить, вот Александр Алексеевич, я вижу, тоже кивает. Спасибо большое всем, кто был с нами. Пожалуйста, приходите в следующий раз: мы будем говорить о стихотворении — вы будете смеяться — Лермонтова — и вы будете смеяться — «Парус».

