
На праздничные выходные в Москве был книжный фестиваль. А там - такая тема: "Интеллигенция и коллаборационизм", в смысле — сотрудничать ли с властью.
По дороге на дискуссию я думал о том, как к этому отнестись. То есть, раз уж я туда иду, то буду про нее писать. Но как? Вопрос формата: тщательно или отсебятинно? С одной стороны, всерьез - незачем, OpenSpace (это они проводили мероприятие, как вторую серию своей беседы прошлой осени) стенограмму выставит. Но отсебятина требует формата, а его не находилось.
По дороге от "Октябрьской" до ЦДХ (семь-восемь минут) я даже вспомнил какие-то моменты первых дебатов и еще более загрузился проблемой. Потому что формат тут сложен, само по себе мероприятие полистилистичное, скажем, так какую из стилистик выбрать как форматную?
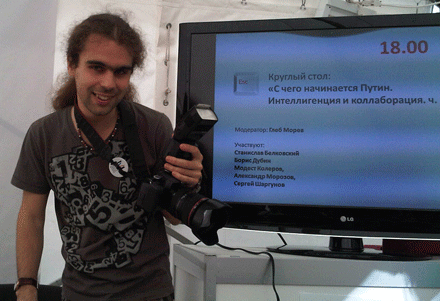
Забегая вперед, уже в ЦДХ — вот так выглядит список докладчиков и сама тема. Позирует - Валерий Леденев с фотоаппаратом, не то что я с телефоном.
Вдобавок, формат такой истории — проблема уже и организаторов. В прошлый раз основное ощущение от дебатов состояло в том, что дискуссия постепенно превратилась в брифинг Г.Павловского (вполне грамотно использовавшего неформатность) или даже в его интервью лично "Радио Свободе" в лице Елены Фанайловой.
Нет, тема-то серьезная — вот же, первую часть дискуссии на OpenSpace просмотрели 41122 человека, сделавшие 29 комментариев. Да и вообще, что может быть серьезней данной темы здесь и теперь? Пусть даже теперь тут фестиваль на открытом, пусть и огороженном стенами ЦДХ воздухе.

И вот тут-то формат возник. К месту действия мы приближались синхронно с Г.Павловским. Едва мы сблизились, он задал вопрос, смысл которого — если перевести его на светский русский — состоял в том, с какой, собственно, целью я намереваюсь посетить данное мероприятие?
Тут я бы мог ответить симметрично, вернув вопрос, однако ж, несмотря на жару и определенную, витавшую над двором ЦДХ бездуховность, решил, что мы все же не в Одессе, и ответил честно. А именно — что меня интересует сам предмет коллаборации. И, соответственно, какие предложения по каким пунктам на эту тему существуют в природе.
- О! – сказал Павловский. - Это действительно интересно, тем более что таких пунктов не очень много. Ну, он знает.
Так что формат оформился. Конечно, это Muppet Show. Если кто помнит, там скетчи отбивались рамкой, где два желчных типа в черных костюмах из ложи возле сцены то делились своими предчувствиями на тему, что увидят, то резюмировали произошедшее. Для тех, кто маппетшоу не застали, вот о чем речь:
Ну и все, куда теперь денешься, когда - как бы сказали политологи – уже настроена оптика.
Собственно, сами участники тоже попали в жанр: ну а как, летний фестиваль июньским вечером, за стенами шатра ходят полуголые люди, дети что-то производят (вообще, там очень много разных детских программ), играет некая музыка, которая иногда начинает играть так громко, что заглушает уже всю судьбоностность. Вот как все это вместе?
Разговор начал Глеб Морев: "В начале 90-х, кажется, Битову принадлежит фраза, что впервые русская интеллигенция едина со своей властью". Но такой момент продолжался недолго, а Фанайлова после Домодедово даже сформулировала — на солженицынский манер — тему неучастия интеллигента в каких-либо начинаниях, связанных с властью. Главный посыл — все это этическая проблематика, а не политическая".
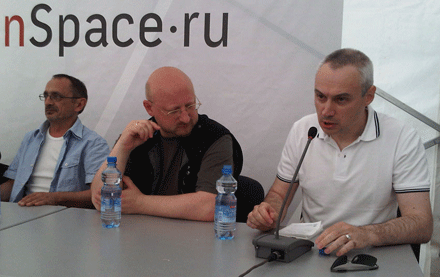
Модест Колеров к моему удивлению начал так: "Любимый поэт Андрея Левкина Фанайлова — относится к власти, как к оккупационной власти". Как мне поступить? Не упоминать данный эпизод я не могу, раз уж именно им Колеров решил открыть диспут. При этом как-то и неловко - в смысле попрания моего privacy. Ну, пусть остается, тем более, что Колерову, к счастью, не ведомо, что сказали бы по поводу власти другие мои любимые поэты и прозаики. Возможно, я со своим ноутбуком напротив показался ему надежной точкой отсчета, от которой можно строить дальнейший дискурс и вот он: "Меня увлекла эта аналогия - мне хотелось бы чтобы, относясь как к оккупационной власти, она была последовательна и отказалась от документов и всего, что составляет структуру власти".
Тут я не понял: Фанайлова, вроде, не альбигойка, чтобы выставлять ей примером всякую там гностическую мораль, но, собственно, тут же диспут. Колеров пояснил, что всегда надо уточнять: "о какой власти вы говорите? о сантехниках или Горбачеве? Почему Горбачев и Ельцин хорошие, а Путин плохой? Почему Навальный и Немцов не исключают из своих биографий своих должностей и почему тогда такая оккупация плохо?". Словом, предложено пакетное сознание: чуть-чуть оппозиционных слов и — огребите весь пакет.
Кажется, своим заявлением Колеров затронул некие Духовные струны, отчего Александр Морозов начал в варианте исповеди, сообщив, что "до 2004 года я считал, что... хотя я и не сотрудничал с Владимиром Путиным и его режимом, но мне он нравился и я отрицать не могу, что в промежуток 1999-2004 считал, что та перспектива, которую они предлагают - спасительная и позитивная". Далее — перерождение докладчика и причины этого: в 2004 году он переоформился не из-за Ходорковского ("это я воспринимал в контексте инерции движения к государству, кто-то из олигархов должен быть посажен, так думали многие"), на него повлиял Беслан и то как власть использовала ситуацию. Тут он добавил к списку переродившихся в это время А.Волошина и А.Илларионова. Хотя и уточнил: "Может, это мой личный рубеж и я к нему привязываю других... после 2004 года у меня не стоял вопрос надо ли сотрудничать с властью. Я не шел на конфликт, но я хотел вывести свою зону из зоны радиации это власти. А она наращивалась и проедала кровеносную систему каждого из нас".
Тема проедания раскрыта не была.
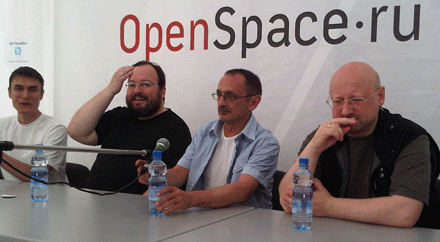
Справа налево: Колеров, Морозов, Белковский, Шаргунов
Стас Белковский подошел к теме, заданной Колеровым (и Фанайловой) системно, сообщив, что "Вся власть в России была оккупационной - начиная с призывания варягов. Она выросла не органически, а призвана извне". Но это не беда, в смысле — даже не проблема для России, потому что все дело только в том, "злой оккупант или добрый, достигает ли свершений или нет, а сама по себе оккупация - органична".
Дальше у него был локальный хит на тему, что власть — это не Путин, который "является величайшей мистификацией 21 века и мы скоро это поймем — он как Гудвин из Изумрудного города. Он — большая операция прикрытия — если говорить свойственными ему самому словами".
Краткий курс нынешней оккупации у Белковского сводился к двум пунктам: власть возникает в любой точке, где есть деньги и админресурс. Откуда вывод: коллаборант - любой, кто умножает власть денег (понятно, уж админресур-то коллаборанту не усилить). После столь бесчеловечного технократического вывода он ушел в лирику, сказав, что все дело в интенциях: "Или ты сотрудничаешь ради умножения денег (тем самым показывая, что тебя тоже можно купить) или только для поддержания своей парадигмы" - как учитель, который в системе власти за 5 тысяч зарплаты. Вообще, тут есть сомнения в четкости. Нет четкой границы — с какого оклада начиная, человек уже там?
Белковский вышел из этой непонятки, просто сменив тему: роль интеллигенции в том, чтобы создать группу, в которую входили бы отщепенцы. Ее роль именно в том, чтобы были отщепенцы, иначе режим вообще не будет рефлексировать. Можно заметить, что тема коллаборационизма тут решена ad def.
Но тут же еще одно системное заявление: интеллигенция — это проект модерна, а теперь давно постмодерн и его моральный релятивизм. Так что уже вовсе непонятно, о чем он тогда говорил с самого начало, раз уж так. Ну, он и сам все тут похерил: у пост-интеллигенция две ценности: свобода перемещения и потребления, но эти две свободы противоречат демократии — если будут честные выборы, то победят люди, для которых все это вовсе не норма. Короче, вот как страшно жить. Невзирая даже на то, что светит солнце, за парусиной шатров производятся радостные вопли, а автор Полит.ру Т.Щербина к этому момент не успела даже доесть мороженое.

Сергей Шаргунов, как изрядный природный стилист, сразу уловил поэтические стороны реальности, в связи с чем сопряг тему оккупации с объявлением Народного фронта. Но выводов из рифмовки смыслов не сделал, а перешел к столь же чутко уловленной исповедальности А.Морозова: "Сам я не занимался сотрудничеством с правящей системой - были попытки поучаствовать в общественных бурях, которые закончились вытеснением из политического пространства. которого теперь и нет. Может, по этой причине я не чувствую себя истероидом, чтобы потрясать кулаками над своей головой с криком Ни-ни-ни!". В общем, вопрос в том, с кем сотруднчиать и на каких условиях. Но обычно это просто невыгодно.
"Невыгодно" в том смысле, что "все, кто сломя голову бросался в эти порочные и сладкие объятия, тонут в них без следа. Это анти-Мидас, он не в золото все превращает, а в другую субстанцию". Тут я уже не могу молчать еще раз, термин анти-Мидас употреблен некорректно. По факту анти-Мидас должен возвращать исходный вид тому, что Мидас превратил в золото.
Но вывод: "Надо заниматься своим делом... Быть художником, писать книги - это вызов в пустоте. Быть собой и заниматься своим делом, не быть политическим коллаборантом в отношении к своим политическим пристрастиям". То есть, по Шаргунову, если занимаешься своим делом, то обязательно бросаешь чему-то вызов? То есть, на свой лад, да коллаборационируешь, раз уж без этой темы и тут никуда? Зато вывод у него снова оптимистический: "Общество в крайне гнилом предраспадном положении". Но ведь и это вопрос формата распада: общество, находящееся в предраспадном состоянии как-то решительно не ощущало этого факта применительно к себе. В данное время в данном месте.

Борис Дубин предположил, что обращение ко всей этой тематике возникает потому, что все большее количество людей — принадлежащих или нет к интеллектуальным профессиям — ощущают, что деградировала, исчезла вся сфера политического, морального и публичного. "Российский социум в таком фрагментированном состоянии и собственной незащищенности, что говорить о морали - что по-китайски в Мытищах". Собственно, это уже тема Шаргнуова. Но у Дубина дальше: "В этом смысле характерно, что единственным языком становится язык насилия - это то, с помощью чего мы говорим друг с другом. Мораль возможна там, где возникает общий разговор. Но если общий язык - насилие, если наборы смыслов осталось в прошлом, то другого языка кроме насилия просто не будет. Что делать? Разрабатывать язык, искать другую позицию. А что касается того, к какой именно власти на каких условиях зачем именно ходить, какие будут результаты и последствия этого похода... Видишь смысл — ходи, не видишь — не ходи".
Вторая серия, то есть еще один вопрос для всех
Здесь Морева интересовало то, показывает ли сама власть что она заинтересована в наличии коллаборантов или ей безразлично - "как было до 1917 года"?
Колеров на историю до 17-года отозвался, сделав сравнение в пользу нынешнего времени: "Нынешняя власть публично и эшелонировано заигрывает с интеллигенцией, использует ее в межклановых разборках. Использует технологично - свои прикормленные СМИ, стены нет, равнодушия нет - многие деятели туда сходили и продолжают работать между медиакратией, экономической и политической властью". И это не просто факты, а и вывод: "Этот континуум является признаком и сферы политического, и сферы публичного. Ничего трагичного в нынешнем состоянии нет". Для него единственная проблема возникает тогда, когда "себя проявляет пустоголовая некомпетентность". Речь, конечно, не о власти.
Морозов прокомментировал Колерова в том духе, что, значит, сотрудничать с властью тогда надо изощренно ("Как Навальный"), а затем прокомментировал и Шаргунова: "Когда мы вступаем на шаткие мосты взаимодействия с властью, то скорее не мы используем власть, а уж она получит все". Мысль, конечно, актуальная, однако примеры из личного опыта приведены не были. А нет, был пример, но соседский: "Последнее десятилетие показывает что такие дивные мозги как сам Колеров - они использованы и отброшены, а удалось ли повлиять на какие-то властные группы?". И снова личное: "Мы бы хотели что-то сделать.... мы не уехали, но мы совершенно не чувствуем, что наши взаимодействия оправданы".
Колеров ответил, что мир вообще во зле лежит. Это, понятно, не рамках возникшего в связи с Фанайловой гностицизма, а "Вѣ́мы, я́ко от Бóга есмы́, и мíръ вéсь во злѣ́ лежи́тъ". (1-е послание Иоанна, 5:19). А так он считает, что ничего личного добиваться не надо, а если не личного — тогда смысл ходить во власть есть. О том, куда как ходить и что предлагать, он соседу все же не сообщил.
Морев попытался выяснить подробности таких походов: "Вы были во власти. Как вы оцениваете этот опыт, как интеллектуал?"
Колеров ответил, что это прекрасная возможность обогатить личный опыт, поскольку тогда понимаешь, как все мифологизировано: "Она распределена, а знание того, что там тоже люди - оно очень ценное". Ну да, всюду люди, но ведь интересно же, как власть так себя поставила, что все это можно выяснить лишь попав туда внутрь.

Белковский добавил, что ему нравится Медведев, который сделал все для десакрализации своего поста, и вот этот момент — перелом в истории: "Именно Медведев логичен - заставляя задуматься о том, что пост президента пора упразднить и ввести нормальную парламентскую демократию".
Дубин уточнил, что сакральность его не волнует, потому что ее нет, а вот "нынешнюю ситуацию, нынешние массмедиа, нынешнее состояние политики сделали не Горбачев, не Ельцин и не те интеллектуалы, которые были в оппозиции. Это сделали те, кто сотрудничал с властью последние 20 лет - именно они привели к нынешнему положению и должны нести ответ за это - сегодня, завтра". Что до выхода из ситуации, то выносить моральные суждения — странно, "я бы пробовал внести в ситуацию какие-то ценности, индивидуальные свободы. создавая определенные институты. Институт — такая штука, которая объединяет не своих, а разных".
А обсуждать проблемы морали можно было бы там, "где мы бы видели такой тип социальных отношений как обмен доверия на ответственность, авторитета на ответственность. где была бы такая штука, как репутация. Сейчас у кого-то есть репутация? А что тогда можно запятнать? Эти люди до предела упростили образ человека, технологизировали его состояние и привели ситуацию в состояние полной имитации. Все ломают ваньку - но оригинала, который они пародируют, просто нет".
Шаргунов (отвечая на спецвопрос Морева о том, что ведь русская литература не равна русской интеллигенции?) настаивал на постмодерне, так что интеллигенция размыта и не играет существенной роли. Но он верит в этические принципы, "считаю что репутация имеет значение, что интеллигенция есть, глядящая в разные стороны — почвенники и западники. И эта цветущая сложность сосредоточена в небольшой прослойке, которая способна производить смыслы... верю в том, что интеллигент, как муравей сок, вырабатывает смыслы. Может, это единственная надежда в пустой ойкумене российской реальности".
Дубин уточнил насчет цветущей словесности, напомнив, что у Леонтьева о ней говорится там, где насчет разложения. Лучше уж Мамардашивили, который говорил, что следует культивировать сложность. А "дальше, что еще можно делать - вопрос разных социальных сил,социальных институций, общества".

Третий круг
Был и третий круг, где Морева интересовал вопрос обуржуазивания интеллигенции, встраивания в буржуазные структуры — в связи с отношениями с государством. То есть, связаны ли нынешние тренды с "путинским подъемом", "жирным десятилетием" и почему это ни к чему не привело и снова развод.
Тут мне стенографировать надоело, тем более, что про буржуазность мне скучно. Отмечу только отдельные моменты. Колеров, например, считает, что обуржуазивания интеллигенции началось с шестидесятников, которые еще в перестройку "заняли место у кормушки и заняли эти места и все эти блага". Он же выразил общее удивление тому, что речь идет о сотрудничестве только со своей властью — "интеллигенция через систему грантов всегда сотрудничала с зарубежной властью".
Морозова продолжало волновать, почему же через двадцать лет, в не самые бедные годы "мы ощущаем отторжение даже по сравнению с серединой нулевых, почему желание не сотрудничать с властью?" Тут, похоже, он нашел объяснение лично для себя: "Если общество затхлое, то надо игнорировать власть в ее харизматических проявлениях. Мы имеем возможность заниматься своим позиционированием в политическом и публичном пространстве как отдельные индивидуумы. Может, не надо постоянно адресоваться к какой-то башне Кремля. Медведев как бы намекает на такую возможность — власть, которая как можно дальше от нас. Она функционирует, но не лезет в кровать. Если убрать молодежные организации и отдельных идиотов из ЕР, которые оскорбляют своим присутствием понятие гармонии, убрать журналистов, которые пишут фальшь, то жить будет хорошо". А потом и вовсе воодушевился, вспомнив слова Дубина: "Мне персонально не требуется от власти ничего и я не ощущаю себя незащищенным . Я всего-то хочу, чтобы здесь развивались институты".
Белковский ушел в философию, сообщив, что интеллигенция всегда поражена двойственностью и отщепенством. Как бы тут сказали у Гашека — "Это вытекает из самой сущности интеллигентства". Собственно, Белковский это и сказал, пояснив, что интеллигент всегда рефлексирует на тему собственной индивидуальности, что нормально — главное, умножаешь ли ты эту власть или власть себя тобой. И вообще, интеллектуал не может прийти к власти и стать ею. Потому что вот тогда-то и начнется полный тоталитаризм. Ну, тут без вопросов — а как же еще? Чтобы все обязательно знали как минимум три языка, а кто не хочет — заставить! Совершенно согласен, но только речь была не о приходе к власти, а о коллаборационировании.... А Белковский не видит предмета: раз уж тут деньги во главе, то интеллект упал в цене ("а это такой же товар, как говядина - никакого эксклюзива в нем нет и никто не будет за тобой бегать"). Так что для власти интеллектуалы превратились "из советников и серых кардиналов в официантов и охранников. Что привело к разочарованиям"
Дубин вообще оспорил тему: для него никакая буржуазность не нарастает, а средний класс с социологическое точки зрения фикция. Его нет и не будет. Но любопытна сама двойственность поведения, не только интеллигенции, потому что это ровно код выживания, адаптация к несвободному обществу. "Пока мы выходим из тоталитарного общества, неизбежна двойственность: насилие и адаптация — там, где не можем использовать кулак. К самой интеллигенции двойственность отношения не имеет, это просто условия выживания в таком обществе".
Шаргунов: "Власть существует ради власти и маска идеала отбрасывается. Закрывается журнал "Русская жизнь" и никто его не возродит. Закрылся журнал "Меведь", который хотел объединить какие-то лица.... Это потому, что нерентабельно. Но применимо и ко всей культуре: она не нужна, вот и все". И еще раз: "Вот и все, что с культурой и интеллигенцией - никому не нужны". Собственно, после такого вывода можно идти жить свободным (от исследованной тематики — в любом случае), но Сергей добавил, что его поколению еще свойствен конформизм, поэтому оно будет смыто следующим - "следующее будет уже диким и отморженным. там мы найдем и солидарность, и самостоятельность". Например потому, что "все социальные лифты уже уехали и не вернутся".
Ну и все. Тут все стали расходиться и реальность принялась входить в довольно сложное взаимодействие со сказанными словами. Но уж какой формат выбран, такой и будет. Маппет-шоу так маппет-шоу: ко мне снова подошел Г.Павловский и, в полном соответствии с жанром, осведомился о том, как мне это все. Я ответил примерно так, что благородные доны всегда умеют поговорить о чем-либо гармонично. Он согласился: - Да, ни одной конкретной ситуации, ни одного имени.
Вообще-то, да — в обсуждавшихся отношениях полно всяких щелочек-дырочек. Но все — да, вполне частные варианты — в таких разговорах всегда оказываются как-то замазаны. Ну вот как выглядит некая изящная чугунная ограда, когда ее покрасили масляной краской в сороковой раз? Причем, это вовсе не вина выступавших и даже не самой дискуссии. Мало того, именно этот результат и является – а нет вариантов – той самой субстанцией, которая – в имеющихся формах выражения - и представляет собой политологический и просто человеческий формат разговоров о данной теме. Да, мессидж каждого из выступавших был вполне конкретен (в этих рамках), а все вместе — тут же действует что-то типа общего знаменателя. И вот да, это и должно иметь ровно такой вид.
Ну и раз уж тут летний веселый фестиваль, и еще упомянуто Muppet Show и, опять же, тема сложности, то закрыть историю лучше всего так:

