
Деятельность Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС привлекает особое внимание как коллег — специалистов в области российского образования, так и журналистов. Причиной тому — чрезвычайно интересные данные и выводы, которые постоянно присутствуют в мониторингах Центра, посвященных актуальным проблемам различных образовательных сфер. А ведь образование — это лакмусовая бумажка развития и российского общества, и российского государства. И вообще, хотите узнать, как будет развиваться Россия в ближайшие годы, взгляните на график ожиданий выпускников российских вузов, составленный ЦЭНО и опубликованный несколько дней назад. Недаром график этот стал одним из самых популярных новостных поводов в общероссийской информационной повестке июля. О результатах исследований и о многом другом мы говорили с руководителем Центра экономики непрерывного образования Президентской академии, доктором экономических наук Татьяной Клячко.
Татьяна Львовна, какова динамика настроений людей, которые заканчивают высшие учебные заведения? Еще пару лет назад тяга была в сторону государственной службы, в сторону работы в правоохранительной системе; что сегодня показывают ваши исследования?
Все, что говорится о системе образования, как правило, с одной стороны вызывает интерес, с другой стороны — не всегда относится к существу дела. Потому что больше всего наших журналистов, да и органы власти интересуют данные о работе по полученной специальности. Если выпускники работают не по полученной специальности, то это считается недоработкой системы высшего образования, соответственно, в ней что-то надо менять.
И ведь меняют постоянно.
Да, и начинаются какие-то преобразования. Между тем, как сказала глава IBM Джинни Рометти, технологии изменяют мир так быстро, что тратить время на учебу в университете становится бессмысленно. Поэтому, например, IBM создает свою систему профессионального образования во многих странах, куда она забирает ребят прямо со школьной скамьи, чтобы люди, которые будут подготовлены, выходили на рынок раньше, зарабатывали много и были эффективны.

Стефан Кесериел, глава биржи фрилансеров, которая соединяет соискателей с их потенциальными местами работы, отметил, что за пять лет навыки проходят половину своего жизненного цикла. Иными словами, через пять лет, пока человек выучится, ценность его образования снизится на 50%. То есть фактически он говорит то же самое, что выучиться вы не можете, потому что если вы остаетесь только в пределах вузовского или другого профессионального образования, то пока вы учитесь — все это уже устареет.
А работодатель говорит: ага, они к нам пришли, они ничего не знают, не умеют и так далее. С одной стороны, у нас довольно много устаревших предприятий, на которых выпускникам неинтересно работать, и они уходят. Работодатель настаивает: они у вас «слишком требовательные»: не хотят на этом оборудовании работать, давайте учить их по-другому. С другой стороны, приходят ребята, которые честно учились, но оказывается, что знания, которые они получили, уже устарели. И работодатель опять недоволен, если это, конечно, не IBM, который делает под себя школы и понимает, что система образования не успевает за переменами.
Если мы к этому добавим проблему быстрой смены технологий, то получим неопределенность будущего: мы не знаем, что будет с экономикой, с социальной жизнью через 5-10 лет. Поэтому все прогнозы, которые делает, скажем Минэкономразвития и где ведущую роль играют цены на нефть до 2030-2035 года, на мой взгляд, ни о чем не свидетельствуют. Потому что жизнь, как и технологии, меняется значительно быстрее.
Егор Гайдар писал: надо быть слегка не в себе, если ты берешься прогнозировать цены на нефть...
Дело не только в ценах на нефть: мы уже почти ничего прогнозировать, кроме того бесспорного факта, что мы быстро развиваемся, не можем. А образование — система очень консервативная, она всегда работала так, что передавала опыт одних поколений следующим. Но теперь этот опыт устаревает быстрее, чем система образования может его донести до следующего поколения. И если мы говорим о школе, то в 2019-м году за парты сядут дети, которые выйдут из школы в 2030-м. Их к чему надо готовить? Школа об этом не задумывается, есть программы, надо пройти такой-то предмет, читать, писать научить… И это правильно. А что дальше?

Дальше мы знаем: будет готовиться линейка учебников. Если сегодня приступить к подготовке учебника по истории за седьмой класс, то этот учебник выйдет только через пять лет.
Да, учебник устареет в процессе написания. Либо мы говорим, что школа у нас теперь учит исключительно фундаментальному образованию — тому, что не может устареть, ведь законы физики не поменяются от того, что какая-то технология сменится. Русская классическая литература как была, так и останется. Но что поменяется, и с чем мы уже сталкиваемся сейчас? Когда дети нам говорят: ну что это за учитель! Он жизни не знает. Потому что для школьников, особенно старших классов, жизнь сосредоточена в телефоне, в соцсетях, в которых он сидит. Вот эти лайки, дизлайки и прочие вещи, которые учителю часто абсолютно непонятны, они для молодого поколения и есть жизнь. То, что там происходит, значительно более важно, чем фундаментальные знания, которые молодой человек не понимает, к чему может приложить. Потому что для него профессия или специальность лежит совершенно в другой плоскости. Значит, чтобы он этим заинтересовался, нужен совершенно другой подход к обучению. Поскольку у нас многие учителя, скажем так, не самого юного возраста, то, соответственно, возникает определенный разлад на уровне школы. Это одна из проблем.
Далее. Когда промышленности вроде бы нужны инженеры, когда государство говорит, что нужно побольше технологов, оно правильно говорит, ведь технологии — это инженерное искусство (за исключением социальных или финансовых технологий). Но современные технологии очень дороги и быстро стареют. У вузов, как правило, их нет. Прежний нацпроект дал вузам оборудование, они стали на нем работать, но сейчас уже прошло больше десяти лет, это оборудование безнадежно устарело.
Я, как и вы, застал еще советских времен программу всеобщей компьютеризации. И она рассчитывалась лет так на 10, но я не уверен, что в каких-то отдаленных частях России она сегодня завершена.
Сейчас мы будем, согласно новому нацпроекту «Образование», создавать цифровую образовательную среду и все сельские школы пытаться подключить к быстрому Интернету. Компьютеры-то везде уже стоят, вопрос в эффективности использования....
А с другой стороны, у нас предлагают изымать при входе в школу смартфоны и куда-то их прятать. Но поскольку некуда прятать, идея заглохла. Может быть, лучше, чтобы цифровизация образования исходила из всеобщего наличия смартфонов?
Учитель не готов к тому, чтобы дети проверяли его слова с помощью Google и ловили на ошибках. То есть вот этот школоцентризм, учителецентризм кончается, новые технологии их разрушают. Но когда учитель приходит к ученикам, и они все «сидят» в смартфоне, а учитель должен чего-то бормотать у доски, то он, наверное, думает: может быть, эти гаджеты убрать из класса?
Чтобы я был самый умный на этот момент, по крайней мере.
Как заставить школьников или студентов быть с преподавателем в аудитории? Ведь технология позволяет им быть одновременно в нескольких местах. Я, например, радуюсь, что когда начинаю вести занятия, через некоторое время они откладывают телефоны и начинают меня слушать, потому что я говорю то, что их задевает. Но это достаточно трудно, наладить контакт с современной молодежной аудиторией.
Но ведь скучных преподавателей, наверно боюсь соврать, 70%-80%...
Которые не задевают?
Которые не задевают, которые по касательной.
Да, они выезжают только на том, что студенту приходится сдавать экзамены… Но мы остановились на неопределенности будущего. Она жестко меняет все подходы к образованию: я должен научить тому, чего еще нет, я должен научить справляться с неопределенностью. Я должен (если говорить о РАНХиГС) научить таким управленческим моделям, которые позволят человеку быть эффективным, даже если он не знает, что случится через пять лет. Нужна готовность к быстрой адаптации. Например, человека надо обучить, что если мир меняется, то мы меняемся вместе с ним. Для некоторых людей это очень неудобно — меняться вместе с миром, лучше бы нас не трогали. А меняться приходится, хотя это неуютно, тяжело.

Следующая задача, которая стоит перед образованием, и которую образование не очень осознает: мы живем в мире, который значительно более разнообразен, чем 20-30 лет назад, особенно в нашей стране. Раньше все учились по единому учебнику. Люди, которые сидели с тобой в классе, были тебе понятны, говорили с тобой на одном языке, была одна и та же культурная матрица. А теперь рядом могут сидеть люди, которые говорят на разных языках, у них разные культурные матрицы, они по-разному одеты, у них разное восприятие жизни. И как учителю или преподавателю вуза охватить это разнообразие — не учебников, мы всегда зацикливаемся на учебнике — а вот это разнообразие восприятия?
И интересов.
И интересов. Если я не понимаю, что мир многообразен, то я работаю на узкую аудиторию, которая на меня более или менее похожа. Для того, чтобы влиять на большую аудиторию, я должен учитывать это разнообразие. Если мы с вами — люди одной культуры, мы это воспринимаем довольно близко, хотя и неоднозначно, слова очень многозначны, с помощью которых мы обмениваемся своими мыслями, поэтому Тютчев сказал очень точно, что мысль изреченная есть ложь. А когда человек другой культуры — для него эта мысль, это слово может иметь другое значение.
Зачем будущему менеджеру или биоинженеру знать о несовпадении взглядов Чернышевского с Набоковым, который еще более или менее актуален, но, наверное, завтра и он перестанет таким быть…
Меня как-то один очень крупный математик, француз спросил: а у вас Бальзака читают? Это было лет 40 тому назад, и я подтвердила: да, читают. В ответ он с грустью сказал: «А у нас уже не читают». И добавил: «И не будут читать». Сегодня не читают ни Бальзака, ни Золя, ни Пруста, ни Флобера, то есть то, что составляло основу нашей с вами культуры. Когда я раньше говорила про диккенсовский капитализм, меня еще как-то понимали, а сейчас это уже будет абсолютно непонятно. Мне приятель сказал: «Что ты с этим Раскольниковым носишься, дети про него ничего не знают и не понимают, ты им чего-нибудь про современное расскажи». С учителями я могу говорить про Раскольникова и как это преподавать, а с детьми — они уже про раскольниковых говорить не могут и не хотят.
Либо надо подавать материал совершенно по-другому. Как-то прочитала в Интернете, когда учительница дала своим ребятам задание составить для Петруши из «Капитанской дочки» профиль «ВКонтакте». И вот детки полезли выяснять, когда он родился и какие родители, какое образование –она так решила эту проблему! Думаю, что можно проделать что-то похожее с «Войной и миром»…
Там персонажей очень много, не успеют.
Можно посвятить роману несколько занятий: профиль Наташи Ростовой, Пьера Безухова, Андрея Болконского — нужны уже другие техники обучения. Мир изменился, и дети изменились.

Следующая проблема системы образования состоит, на мой взгляд, в том, что мы, когда сейчас его реформируем, как говорил Черчилль о генералах, готовимся к прошлой войне. Мы решаем задачи, которые возникли в прошлом и не были тогда решены, или которые только сейчас стали нам понятны. Но когда они стали понятны, они уже не актуальны, потому что появились новые проблемы в системе образования — из-за несогласованности предыдущих реформ, из-за того, что их делали спустя рукава или не понимая, что делают. Страна огромная, а нам кажется, что мы что-то тут придумали, и будет адекватно воспринято во всей стране, а дело идет так, как его на местах понимают. И у нас часто нет задачи всем подробно объяснить, что именно происходит. И даже если мы объясним, все равно кто-то поймет так, а кто-то поймет по-другому. И поэтому мы очень часто получаем совсем не то, что задумали.
Далее. Мы не очень понимаем, как разрабатывать следующие шаги (не будем говорить «реформы») образовательной политики с учетом сделанного ранее. Мы часто не имеем достоверной информации, так как она проходит через много рук. Кто-то скажет, что это не надо показывать, потому что есть стимулы, которые приводят к тому, что информация начинает легко искажаться. Это сплошь и рядом. Я помню, когда вводили ЕГЭ, один из руководителей регионов при мне сказал: наш регион не должен быть хуже по ЕГЭ, чем все остальные.
И приложил максимум усилий...
Да, и все стали стараться, чтобы регион выбился в передовики, подгоняя, приписывая результаты под заранее заданную планку. Значит, информация может искажаться сознательно. Преодоление этого искажения, непонимание, что искажается и как это можно изменить — это тоже очень и очень серьезная проблема.
И кем, все-таки, хотят стать наши дети?
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая наиболее развитые в экономическом отношении государства планеты, провела большое исследование по своим странам — опросы пятнадцатилетних учащихся. Кем в основном хотят быть? Врачами, вечная специальность, общество стареет, врачи нужны, подростки хотят быть врачами. Второй ответ по значимости — это учителя. Тоже вечная профессия, хотят быть учителями. Третий ответ — это юристы. От рождения и до смерти тебя должен провести человек, который будет помогать решать проблемы на правовом поле: страховки, покупки, лечение, обучение. А дальше, как и у нас — полиция, следователи, работники силовых структур. Почему? Опять — вечная вещь, охрана правопорядка, никто ее не отменял. Значит, если пойти в правоохранительную сферу, то можно более или менее спокойно прожить свою жизнь, как подросткам кажется. Ну, и еще романтика подвига. За этими стремлениями, если отбросить романтику, стоит, в общем-то, неприятие быстрых перемен. Дети, которые вроде бы живут очень быстро, в реальной жизни не очень хотят, чтобы эта жизнь быстро менялась, они ищут «вечные» сферы. Дальше идут психолог, архитектор, ветеринар, и наконец — спортсмен. О спортсменах все знают, что они великие, успешные. И последняя по востребованности профессия — это офисный клерк.

А что отвечают наши, российские родители? Мы не опрашивали детей, мы опрашивали родителей. Какое занятие родители считают перспективным для своих детей, когда ребенок начнет работать. Информационные технологии, связь — родители смотрят на гаджеты, всеэто востребовано. Второе — медицина, она в топе постоянно. Дальше — армия, полиция, силовые структуры. У нас, в отличие от стран ОЭСР, дальше идут инженерные специальности. Потому что мы говорим, что нужно осваивать новые технологии, надо, чтобы они к нам пришли. Дальше — экономика, финансы, менеджмент, юриспруденция и право. Потом идут строительство и ремонт, архитектура. Затем — госуправление, следующее — образование.
Образование, наверное, уже лет 30 не находится в приоритете.
Вы знаете, если, действительно, 10% выпускников школ окончат педвузы и пойдут работать в школу — этого хватит.
А педагогические вузы вообще нужны?
Здесь мы опять получили интересную вещь: 81% окончивших педвузы говорят, что они работают по специальности. 70% тех, кто окончили мехматы разных вузов, тоже говорят, что они работают по специальности, 30% — что нет. При этом кто-то из математиков может работать специалистом по ИКТ и считать, что не работает по специальности. А если он закончил педвуз, как учитель математики, и работает математиком, скорее всего он скажет, что он работает по специальности. Вот здесь есть еще такой зазор, тоже интересный.
Мне часто приходится объяснять, что чем инновационнее экономика, тем большая доля людей будет работать не по полученной в учебном заведении специальности. Это понятно, потому что возникают новые сферы и туда приходят люди, которые выучились в тот момент, когда этого не было. И поэтому нам может даже казаться, что это по специальности, но на самом деле не по специальности. Если есть реальная инновация, то человек, который с ней связан, часто работает не по специальности, но далеко не всегда это осознает.
Физики говорят, что впервые издававшийся с 1940 по 1965 гг. многотомник Ландау-Лифшица «Курс теоретической физики» сохраняет свою актуальность и будет переиздаваться и использоваться еще много лет. То есть, все-таки какие-то фундаментальные вещи в образовании сохраняются?
Есть фундаментальные знания, без которых, во-первых, не обойдешься, потому что фундаментальные знания не очень зависят от технологий. Мы сейчас пользуемся открытиями, которые сделаны в XIX-ХХ веке, а новых открытий мало. Поэтому я считаю, что школа должна давать в основном фундаментальные знания. Не практико-ориентированные, как сейчас говорят. А именно фундаментальные, ибо то, что написали Ландау и Лифшиц или придумал Архимед много веков назад — это сохраняет свою актуальность. Пока мы находимся в тех скоростях, в которых находимся, физика Ньютона продолжает действовать. Пока мы чиним розетки, должны знать закон Ома.
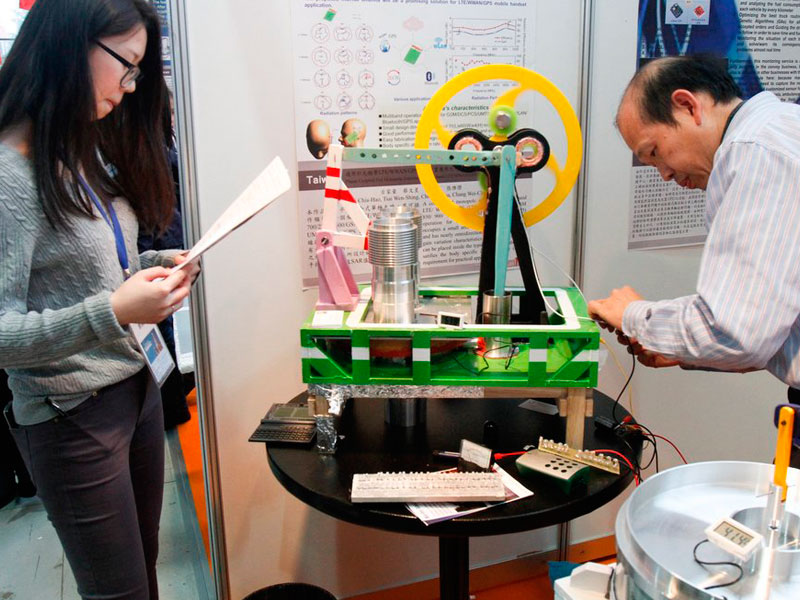
И как это будет? Передовые технологии, передовая система образования, гибкость и прочие реформы, и одновременно огромное количество людей косных, малообразованных. Куда они денутся при будущем технологическом укладе?
Очень серьезный вопрос, я его все время себе задаю, по очень простой причине — сейчас происходит так называемая поляризация рынка труда, когда очень востребованы новые технологии. Мне объясняют, что нужны будут суперпрофессионалы и, скажем, обслуживающий персонал низового уровня.
Куда же денутся середнячки?
Понимаете, не все могут быть интеллектуалами высокого полета, хотя говорят, что можно всех сделать успешными. Но есть много людей, которые могут хорошо работать руками, и в этом их счастье, потому что руки вообще-то связаны с головой. Для того, чтобы быть хорошим краснодеревщиком, ты должен еще очень много думать, но это другое «думание», которому, как правило, не учат в школе. В школе тебя будут долбить, что ты не знаешь ту же физику или ту же геометрию. И ты будешь неудачником, учитель будет тебя стыдить. Поэтому возникают школы в Израиле, в Штатах, где запрещено учителям говорить, что ребенок что-то не понимает, их нужно учить, как успешных. С другой стороны, если ты не говоришь, что ребенок сделал какую-то неправильно, в чем будет стимул для развития? Опять же вопрос — как выстраивать стимулы, когда вы не хотите делать детей изгоями и неуспешными. Мы хотим всех делать суперуспешными или не позволять им быть неуспешными, к чему это приводит и как должен себя учитель вести? Это тоже проблемная ситуация, которую мы, к сожалению, очень мало обсуждаем, потому что ребенок пошел в школу, родители нередко думают, пусть теперь учитель с ним разбирается, а я ему только должен обеспечить еще набор дополнительных занятий.
Татьяна Львовна, мы примерно можем понять, почему общее среднее образование длится 10-11-12 лет, потому что это связано не столько с объемом знаний, а с биологическим и социальным развитием. А сколько лет должен человек учиться в высшем учебном заведении? Почему мы пришли к болонской системе «четыре плюс два», хотя технология образовательная позволяет тот же самый объем знаний, умений и навыков приобрести...
Теперь это называется компетенции.
Да, приобрести компетенции в другие сроки.
Совершенно не очевидно, что дети должны учиться 10, 11 12 лет — это социальная норма, не столько образовательная. Когда мы стали заниматься молодежной политикой, то вдруг осознали, что у нас молодежью считаются юноши и девушки с 14 до 30 лет. Почему с 14? Потому что в свое время после седьмого класса ты мог пойти работать. Поэтому ты уже был не ребенком, а молодежью. Потом граница сдвинулась до восьмилетки, это 15 лет, потом до девятилетки, и это уже до 16 лет. Да, изменились требования к работнику. Развились технологии, и мы должны, следуя за ними, выпустить ребенка из школы не раньше 17-18 лет. С другой стороны, в позапрошлом веке человек жил в среднем 40 лет, в 14 лет это был уже взрослый, а сейчас и в 30 иногда еще не взрослый. Мы возраст детскости, или инфантильности, сильно продлеваем. Потому что нет необходимости выходить на рынок труда и зарабатывать, по крайней мере, во многих странах так происходит. Мы это переняли, и если у нас даже если семья хочет, чтобы ребенок в 15-16 лет пошел работать, то особо ему некуда пойти. Если работодатель ставит новую технику, то вообще допустить кого-то в 15-16 и даже 18 лет до нее ему страшно — не дай бог, молодой работник эту дорогостоящую технику сломает.
Остается только сфера услуг. И молодежь, если идет рано работать, то она может пойти только в определенные сегменты, и это тоже задает жизненную траекторию, и нужно сделать очень большое усилие, чтобы с этой траектории свернуть. Поэтому вопрос не в том, как устроена продолжительность школьного или вузовского образования, а в том, какая экономика у вас есть и куда люди могут пойти себя реализовывать, или не реализовывать.
Допускает ли экономика, чтобы вы были фрилансером, допускает ли она, как предлагают в Швейцарии, что вам дадут базовый безусловный доход 2 000 франков — и живи, только не работай. Потому что ты уже не очень нужен этой системе производства. И то, что сейчас происходит, так сказать, в политической жизни Европы, связано с тем, что люди все больше осознают, что они не нужны как работники. Нужны как потребители, не нужны как работники.
Проще работать с роботами?
С одной стороны. А с другой, у вас же куча населения, которое не очень образовано, в высших сферах оно не вращается, тем не менее заниматься, скажем, мусором не хочет, или если будет, то только в белых перчатках.
Это в том числе проблема образования.
Да. Ведь те избиратели, которые поддержали Трампа в Америке, появились не на пустом месте. Если вы убираете индустриальный сектор, или почти убираете, переносите его за границу, то ты вроде бы житель великой державы, но ты никому не нужен, ты державе уже не нужен, вот проблема. То же самое с «желтыми жилетами» во Франции, то же самое с борьбой с Uber, потому что таксисты уже не нужны. Когда все умеют водить машину, то люди начинают договариваться друг с другом: ты везешь меня, я везу тебя, и мы вообще друг друга везем, и зачем нам таксист. А посмотрите, сколько в России на улицах таксистов — потому что мы еще до этого не дошли. Но как только дойдем, так тут и возникнет — куда людям деваться? Вы, власти, подумали, куда их переставите с этой профессии, в какую?
Идеологи изменений в системе образования в России говорят: это не проблема, мы их будем переучивать на актуальные профессии. А какие актуальные, и в состоянии ли не система даже перестроиться на непрерывное образование, а в состоянии ли люди, которые вчера работали таксистами, официантами, санитарками переучиться, и на кого?
В том-то и дело. Сейчас это проблема предпенсионеров, которым возраст пенсионный подняли, а при этом работодатели человека на работу стараются после 50 лет не брать. Хорошо учителям, врачам, а на кого бухгалтеров, которые становятся ненужными, переучивать? На кого вы переучите грузчика? Понимаете, не задавая себе этих вопросов, мы не поймем, как строить будущую систему образования. Мы так легко говорим: мы сделаем массовое непрерывное образование. Только чему эту массу учить? Либо вы будете спасать этим занятием, сегодня вы их переучили на экономиста, завтра вы переучили его на управленца, послезавтра еще на кого-то, а тут подошел срок пенсионный, то есть вы пять лет будете их переучивать, чтобы они себя ненужными не чувствовали, но ведь это не выход, и люди все равно будут недовольны.
Одно дело, когда у вас меняются технологии, и вы переучитываете людей под эти новые технологии. За это платят сами работодатели. Те, которые технологиями располагают и которым нужен переученный работник. А другая задача — переучить, занять чем-то людей, которые сейчас не нужны. Которых работодатель не хочет брать, а его вынуждают.
Кто будет за это платить? Только государство, так получается.
Да, только государство, или потом оно начнет принуждать это делать работодателя.
Система образования сейчас в мире является еще и механизмом, который позволяет стыковать рынок труда и другие социальные процессы. Когда вы забираете в систему образования людей — они учатся, в это время кто-то может еще поработать, потом говорите этим поработать, а других отправляете поучиться. Поэтому такой демпфер интересный создался, когда образование как бы балансирует рынок труда, пока мы ищем новое применение работнику
Татьяна Львовна, скажите, у нас в связи с демографическими процессами, то есть со спадом рождаемости и с не очень большим уменьшением смертности, что может ждать в ближайшие годы систему высшего образования?
В 2000-м у нас 67% шло в десятый класс, а потом после 10 класса 80% шли, как правило, в вуз. А теперь у нас 55% идет получать высшее образование, все остальные пошли в систему СПО. На кадровых рабочих раньше училось 26%, осталось 11%. Вот что меняется сейчас. Поэтому, если этот тренд будет нарастать, то возникает вопрос: что дальше, сколько пойдет в вузы? Многие, получив среднее профессиональное образование, все же рано или поздно пойдут в вузы, скорее всего, на вечернее или заочное обучение. Система высшего образования уже перестроилась — закрылись тем или иным образом очень многие неэффективные вузы, особенно сокращения коснулись филиалов и частных вузов.
Они научились зарабатывать деньги, и будет тяжело отказаться от этой «вредной» привычки — зарабатывать деньги, им будет продолжать хотеться эти деньги получать.
Молодежь, как я уже сказала, во многих случаях не устраивают низкая зарплата и отсутствие карьерных перспектив. 25% говорят: работая, мы не можем улучшить свои жилищные условия. Поэтому работа нас устраивает, не устраивает то, что мы не можем при помощи работы улучшить жилищные условия, очень дорогая ипотека.

Чтобы получать больше, многие по своему желанию или вынуждено уходят в теневой сектор, работают неформально. И среди этих ребят очень мало тех, кто заботится о пенсии или об оплате больничных, кого не устраивает отсутствие «белой» зарплаты. 57% выпускников сегодня говорят, что не обязательно получать высшее образование. 33% не собираются получать высшее образование. Для меня это странно, поскольку высшее образование до сих пор дает самую большую отдачу в смысле заработной платы. Я приняла зарплату людей с высшим образованием за 100%. Еще в 2005 году специалисты среднего звена, имевшие среднее профессиональное образование, получали 68% от зарплаты работника с высшим образованием, а теперь 60%. Рабочий получал 71,5%, теперь 60%. Те, которые имели среднее полное общее, получали опять же 68%, теперь где-то около 60%.
Если взять Москву, то в мегаполисе 77% — это работники с так называемым третичным образованием, среднее профессиональное и высшее. Дети какое образование будут получать? Скорее всего, высшее. Работников без профессионального образования– всего ничего, поэтому я часто говорю: Москва в недалеком будущем — это город для москвичей, имеющих высшее образование, и для мигрантов, которые будут заняты неквалифицированным трудом. Пока это так. Примерно такая же судьба у Санкт-Петербурга. А есть регионы, где одни работники имеют высшее образование, а другие — только школьное, а профессионального образования не имеют. В этих регионах менять экономическую ситуацию, а она там тяжелая, будет очень непросто.
Так что, глядя на структуру занятого населения в регионе, можно многие социально-экономические процессы прогнозировать.

