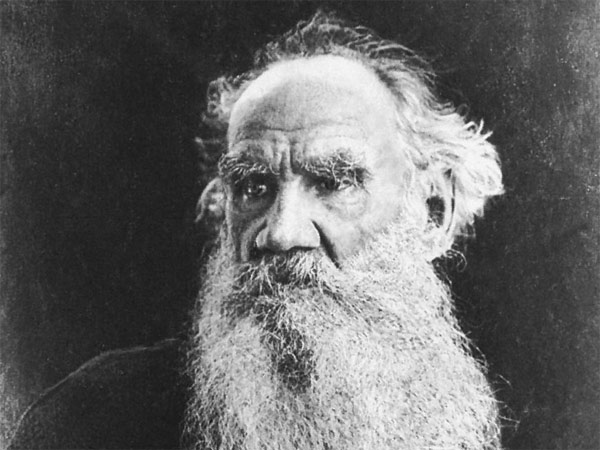
Личное
Недавняя информационная волна, на поверхности которой плавали какие-то нелепые списки произведений – не то для школьной программы литературы, не то для рекомендованного внеклассного чтения – не могла не обратить мысли к этому школьному предмету, согласно общепринятому мнению, одному из центральных в образовательном комплексе средней школы.
Разумеется, первое, что приходит в голову – это личные воспоминания. Так сказать, мой собственный опыт знакомства с этим предметом, приобретенный давным-давно, в эпоху классической советской школы, когда среднее образование, согласно нередко высказываемым ныне мнениям, "не было еще разрушено варварскими реформами".
Так вот, что же дало мне изучение литературы в школе?
Сразу скажу, что учился я довольно прилежно, все полагающиеся произведения прочитывал – причем, прочитывал как положено: до 1 сентября года изучения этого произведения в программе. Это, несомненно, было полезно: даже почтение таких текстов, как "Что делать?" Н. Г. Чернышевского или "Как закалялась сталь" Н. А. Островского оставило определенный след в мозгу и, в общем, даже не казалось мне тогда особо скучным. Во всяком случае, я об этом чтении не жалею и не жалел никогда.
Сами же уроки литературы, напротив, не оставили следа никакого – помимо ощущения бездарно потраченного времени. Какие-то отрывочные воспоминания всплывают, относящиеся к разным годам (а я учился в трех весьма разных школах): "дети, найдите в тексте описания природы" или "покажите, как писатель показывает трудную жизнь крепостного крестьянина". Все это было исключительной бессмыслицей, ничего не добавлявшей ни разуму, ни сердцу. И никаким образом не повлиявшей на мои литературные взгляды и предпочтения.
Все же, дав себе труд напрячь память, я смог извлечь оттуда еще несколько крупиц информации. Всплыли уроки литературы в седьмом классе, в школе, где я проучился лишь один год, и где у нас словесность преподавала крайне глупая и неразвитая (хотя и весьма добрая) учительница, сильно уступавшая всем прочим, встреченным мною в школьные годы. Зато она одна знала, что делает: готовила учеников к написанию экзаменационных сочинений. Для этого она заставляла фактически заучивать множество словесных штампов – банальнейшие речевые обороты, вырванные из контекста стихотворные стоки или двустрочия, эпитеты, истоптанные как ступенька в жилконторе. Надо было нагрузить себя всем этим мусором, а затем научиться жонглировать им. Вот и все.
Надо сказать, что это было правильно и хорошо работало – ибо было конгениально самому явлению школьных экзаменационных сочинений. Которые, вопреки публично декларируемой цели, никаким образом не проявляли умение ученика связно мыслить и связно излагать свои мысли письменно. Никто мыслить в этих сочинениях и не пытался – в том числе и даже особенно те, кто в принципе мыслить мог: это было не только не нужно, но и опасно – ибо грозило выходом за границы шаблона, а значит и дополнительной неопределенностью оценки. Как не годились эти сочинения и для проверки навыков правописания: ограниченный набор заученных шаблонов ничего общего не имел с реальными трудностями орфографии и пунктуации, с которыми человека сталкивает жизнь.
В общем, единственный, реально проверяемый в этом состязании навык состоял в вышеупомянутом умении лить речевую воду, говоря, не сказать ничего. В практике позднебрежневского СССР это было до некоторой степени полезное умение.
К сказанному я, пожалуй, могу добавить еще и отцовский рассказ о преподавателе литературы его школьных лет. Это был конец сороковых годов прошлого века – так вот, учитель, преподававший литературу в одном закрытом учебном заведении, счел, что главной целью его труда является пробуждение у школьников интереса к чтению. Чего он и добивался, по словам отца довольно результативно – просто читая вслух те или иные отрывки, способные заинтриговать мальчиков. И мальчики шли в библиотеку.
Больше мне сказать нечего – иных примеров осмысленного преподавания литературы в школе я не знаю, хотя и верю, что такие были и есть. Однако, это уже будет не феномен учебного курса, а феномен личности преподавателя – которому, в известном смысле, все равно, что преподавать, хоть телефонный справочник. На меня, например, сильнейшее позитивное впечатление произвел учитель труда в том же седьмом классе – которого я и застал-то мельком, но запомнил до конца дней как пример исключительно гармонично и разносторонне развитой личности, настоящего мужчины и педагога.
Но пора уже, пора переходить от частного к обобщениям…
Общее
Любая деятельность должна иметь цель – иначе она превращается в карго-культ. Какое целеполагание было в советской школе относительно курса литературы? Как я уже сказал, всяческие слова про развитие мышления, навыков устной и письменной речи – это просто слова. Ничего, приближающего к этой цели в курсе реально не предусматривалось, за исключением, разве лишь, чтения программных произведений как такового – но и этого чтения при известной ловкости можно было избежать. (Собственно, подобную ловкость этот курс и воспитывал.)
Зато имелась другая, весьма ярко выраженная цель. Курс литературы рассматривался в качестве иллюстрированного приложения к школьному курсу истории – основной идеологической компоненты советской школы. То есть, изучаемая литература рассматривалась в качестве источниковедческой базы исторических построений. Тут, в принципе, можно довольно долго рассуждать вообще о феномене наших представлений о старой русской жизни, в значительной степени основанном на чтении русских классиков и почему-то очень слабо коррелирующим со скучными достижениями клиометрии и разных прочих позитивных исторических дисциплин – но я сейчас не об этом.
А о том, что, конечно, помимо сказанного, были еще и иные цели – не важно, осознаваемые или не осознаваемые теми, кто стоял тогда у руля.
Разумеется, эта как будто бы бессмысленная и безрезультатная возня с текстами литературных классиков создавала то, что называется культурным шаблоном. Это такая многослойная довольно штука – включающая, например, в себя столь разные вещи, как:
1. речевые клише – цитаты, контекст которых понятен всем и потому позволяющие сократить объем информационного обмена (размеры текстов)
2. нечто, играющее роль пароля – позволяющее разделить людей на своих и чужих: чужие не знакомы с школьными хрестоматийными текстами...
3. создание системы национальных безусловных авторитетов – то, что особенно ценно в социумах, склонных к авторитарности. Говоря иначе, если в доме когда-то жил Пушкин, то его уже не снесут ради строительства казино. И финансирование Пушкинского Дома является безусловным обязательством любого российского правительства. Получается некий культурный якорь, общепризнанная ценность, от которой, как от печки можно строить целую ценностную систему. В иных обществах эту роль играет религия – но не у нас…
Другими словами, речь идет о малозаметных кирпичиках, лежащих внутри нашей национальной идентичности.
Отметим, однако, что при этом ничего не говорится о том, что именно делается с литературной материей во время такой выработки шаблонов – по идее, нет особой разницы, что – лишь бы побольше вертели в руках.
К чему я? К тому, что эта, последняя цель остается актуальной и сегодня, тогда как первая – слава Богу, ушла в историческое небытие. А с ней, возможно, и некоторое особое место художественного чтения как вида времяпрепровождения и способа общественного мышления, существовавшее в русском логоцентрическом социуме двух предшествующих веков, когда литературные журналы во многом заменяли общественно-политическую жизнь.
А какие еще могут быть цели изучения в школе литературы… да , нет – не литературы даже, а вообще словесности: ведь ни из чего, как мы видим, не следует, что именно художественной литературой следует ограничиваться.
Мне представляется, что весьма актуально и даже – сверхактуально преодоление неумения наших школьников (да и вообще людей) работать с текстами. И отнюдь не только и даже не столько – с литературными текстами. Мы не умеем читать газету, не умеем понять смысл опубликованного государственного акта, не умеем сформулировать логически непротиворечивые правила для чего-либо, дать корректное определение понятию, правильно построить аргументацию, написать вежливое письмо, вести корректный диспут. Результатом этого являются и наши убогие собрания, многословные, изматывающие и бестолковые, и наш убийственный уровень юридического языка, наша повышенная конфликтность, и масса разных прочих далекоидущих следствий.
Это очень давняя беда – можно сказать, традиция русской культуры – но это не значит, что ничего сделать нельзя. Наверное, стоило бы разработать такой курс словесности, в котором произведения классической литературы станут присутствовать лишь как некоторая его часть, не претендуя на построение в рамках курса целостной истории русской литературы, но предполагая более активное и живое с ними оперирование – возможно, с использованием возможностей компьютера по поиску и редактированию текста. Зато школьнику придется познакомиться с правилами и приемами риторики – разумеется, с соответствующим практикумом, – столкнуться с текстами судопроизводства и законодательства, попробовать себя в анализе сообщений СМИ, создать фрагмент толкового словаря и так далее. Всяк, будет полезнее и живее, нежели "образ Чацкого, как лишнего человека эпохи крепостничества".

