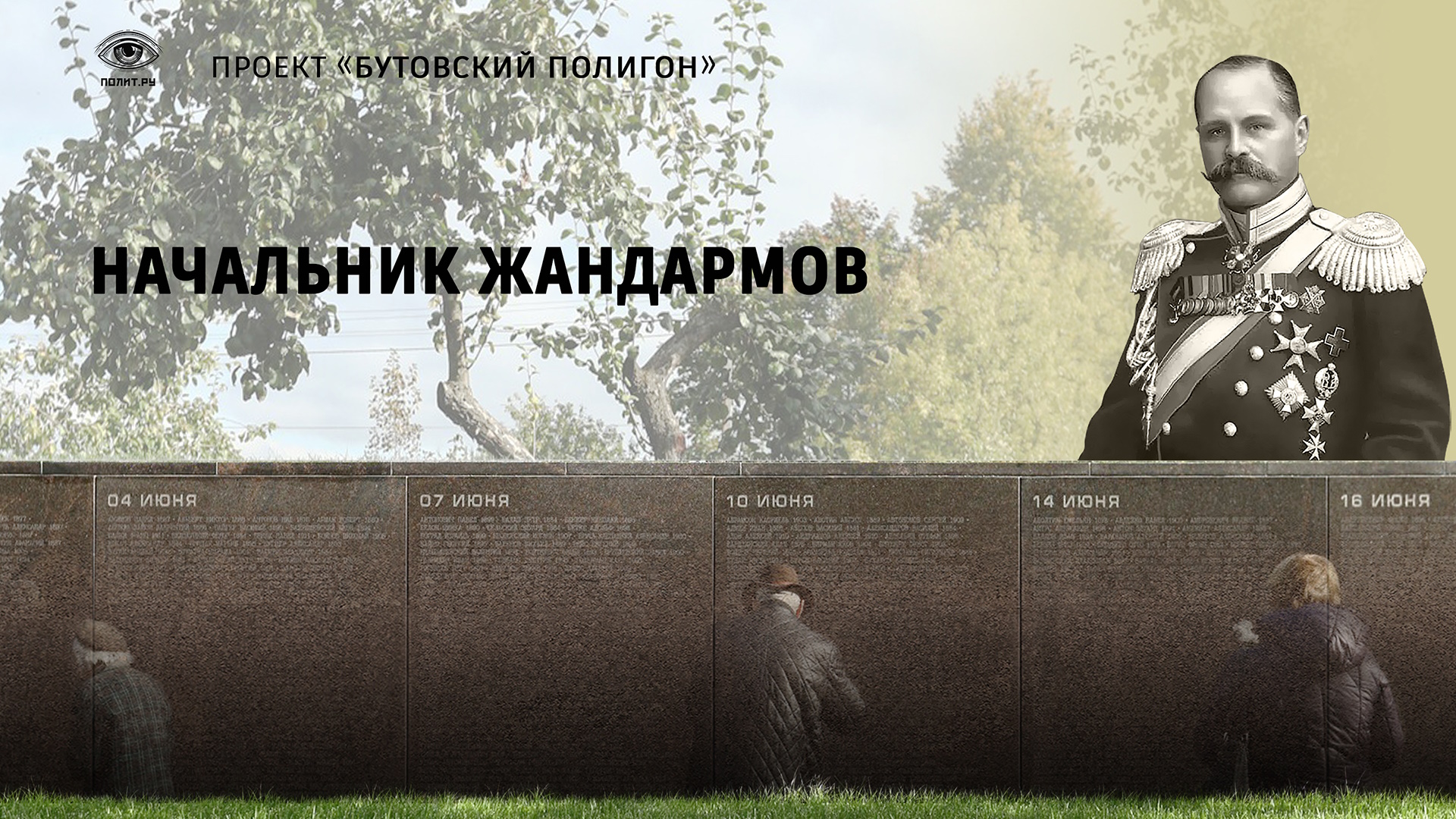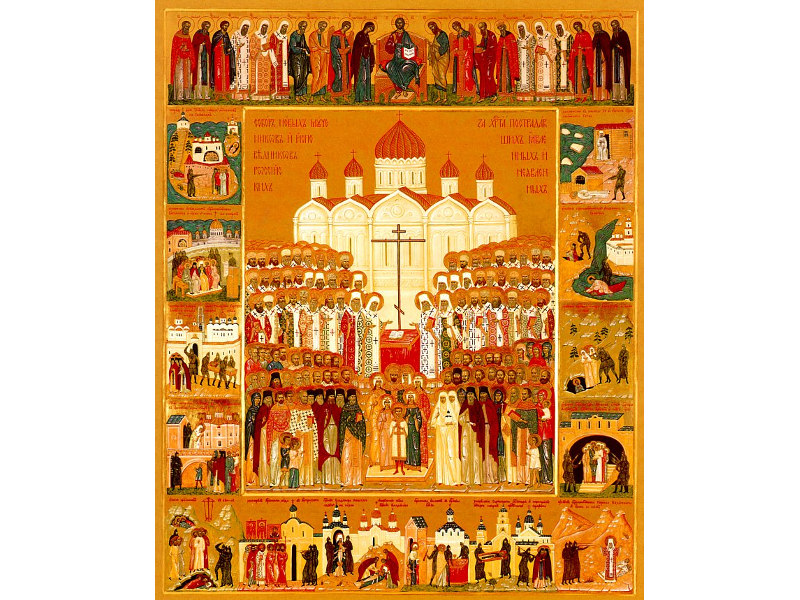
Александр Пономарев — сын псаломщика села Романовского Верхотурского уезда (ныне село Романово Серовского района) Пермской губернии. С детства отличался большими способностями к наукам и много читал, в течение своей жизни сумел изучить три языка: французский, греческий и латинский.
В июне 1899 года 22-летний Александр Пономарев окончил Пермскую духовную семинарию. Женился, у него родилось четверо детей.
В сентябре 1899 года рукоположен во священника к Николаевской церкви Быньговского завода Екатеринбургского уезда (ныне село Быньги Невьянского района) той же губернии и назначен законоучителем в земское начальное училище.
В 1900 году переведен в Сретенский храм Пышминского завода и определен преподавателем Закона Божия в министерское начальное училище, в Сарапульское земское училище в деревне Сарапулке и заведующим и законоучителем церковно-приходской школы.
В 1905 году назначен законоучителем в Екатеринбургское духовное училище. Летом 1905 года отец Александр вместе с духовенством Екатеринбурга участвовал в течение трех дней в богослужениях, совершавшихся протоиереем Иоанном Кронштадтским в храмах города. О. Александр был одним из тех, кому посчастливилось принимать о. Иоанна Кронштадтского дома. О.Иоанн благословил всех членов семьи, и это благословение они помнили всю жизнь.
В 1910 году отец Александр был назначен заведующим Екатеринбургской епархиальной псаломщицкой школой, а в 1912 году — шадринским уездным миссионером и членом Шадринского отделения Екатеринбургского епархиального училищного совета.
Должность уездного миссионера была введена 2 марта 1911 года указом Святейшего синода. Назначенный на нее священнослужитель должен был руководить всей миссионерской деятельностью уезда, важнейшим направлением в которой являлась работа с раскольниками-сектантами. Екатеринбургская епархия имела сложный религиозный состав. Кроме православных, здесь жили старообрядцы, мусульмане и представители разных сект. О. Александр вполне соответствовал требованиям, предъявлявшимся к миссионерам. Он проводил много времени в разъездах, организовывал публичные собеседования и диспуты, на которые приглашались все желающие: старообрядцы, сектанты, православные.
В 1915 году назначен законоучителем Шадринской учительской семинарии, в 1917 году — директором семинарии.
В 1918 году назначен настоятелем Михаило-Архангельской церкви Ревдинского завода в Екатеринбургском уезде, а в 1920 году — настоятелем Александро-Невской церкви в городе Екатеринбурге, построенной купцом П.В. Лузиным и потому местными жителями называвшейся Лузинской.
В 1923 году назначен настоятелем Успенской церкви при Верх-Исетском заводе в Екатеринбурге и в том же году возведен в сан протоиерея. Образование в это время было уже монополизировано государством и, соответственно, стало целиком атеистическим, и перед священником встала трудная задача: как дать полноценное образование младшим детям. Составив программу для обучения детей, он общеобразовательные и вероучительные предметы преподавал сам, а уроки математики, химии и физики дети брали у частного преподавателя.
В конце 1920-х годов власть в стране развернула очередную кампанию по закрытию храмов. Заместитель постоянного представительства ОГПУ по Уралу писал о храме, в котором служил отец Александр: «Успенский собор является пунктом группирования чуждых антисоветских элементов, которые оказывают религиозное и политическое влияние на рабочих. Из этой церкви идет руководство религиозной работой даже за пределы Свердловского округа».
В 1927 году сторонники архиепископа Григория (Яцковского) так и не смогли добиться передачи им Успенского храма.
В 1932 году Успенский храм был закрыт, и отец Александр с женой и младшим сыном Григорием переехали в город Невьянск, где о . Александр стал служить в Вознесенском храме при кладбище.
В 1932 году овдовел, и в 1933 году был пострижен в монашество с именем Ардалион. Некоторое время после пострига о. Ардалион был благочинным Невьянского церковного округа. 19 декабря 1934 года он был возведен в сан игумена.
В конце 1934 года был назначен настоятелем Свято-Троицкой церкви города Миасса Уральской области. Вскоре Свято-Троицкий храм был закрыт, и отец Ардалион вынужден был вернуться в Невьянск и поселиться у сына.
Челябинская епархия не имела в то время правящего архиерея и подчинялась то епископу Свердловскому, то Омскому, но после ареста последнего она осталась без управления. В декабре 1935 года состоялось заседание церковного совета, который решил просить заместителя местоблюстителя митрополита Сергия назначить к ним епископа. В решении приходского совета далее указывалось, что, поскольку православный храм в Челябинске отсутствует, кафедральным храмом мог бы быть великолепный храм в Каслях, находящийся в прекрасном состоянии. Благочинный, протоиерей Александр Можаев, после этого собрания отбыл в Москву к митрополиту Сергию, но тот отказался послать к ним епископа, ссылаясь на то, что несколько раз уже посылал епископов, однако местные власти всякий раз отказывали им в регистрации, и порекомендовал найти кандидата на месте. 13 февраля 1936 года благочинный отправился в областное епархиальное управление, где ему порекомендовали рассмотреть для рукоположения в сан епископа игумена Ардалиона (Пономарева), находившегося в то время в Невьянске. Для переговоров с отцом Ардалионом выехали представители приходского совета Вознесенской церкви в Каслях. 23 февраля отец Ардалион прибыл в Касли, где на совещании приходского совета выразил согласие быть Челябинским епископом. Теперь было необходимо получить благословение митрополита Сергия на назначение отца Ардалиона настоятелем Вознесенской церкви, чтобы впоследствии он был зарегистрирован на этой должности властями, а после этого хиротонисан во епископа, что можно было бы представить властям как очередную награду.
В марте 1936 года отец Ардалион прибыл к митрополиту Сергию в Москву. Он рассказал, что приходский совет желает иметь своего епископа с жительством в Каслях и как кандидата выдвигают его. Митрополит сказал, что он неоднократно возбуждал перед гражданскими властями вопрос о создании епархиального управления в Челябинской области, но власти не отреагировали на его предложения. Он благословил отца Ардалиона быть настоятелем Вознесенской церкви и тогда же, по-видимому, возвел его в сан архимандрита.
С приездом отца Ардалиона в Касли в приходе оживилась религиозная жизнь; как свидетельствовал впоследствии один из священников на допросе, архимандрит Ардалион призывал священников быть более активными, вливал в них «дух бодрости, бичевал за пассивность. Требовал усиленно отстаивать религию, привлекать больше верующих». В то время некоторые еще надеялись, что после принятия новой конституции будет если не полное прекращение атеистической пропаганды и репрессий, то хотя бы некоторое смягчение позиции государства по отношению к церкви. Отец Ардалион первоначально также надеялся, что государство предоставит церкви какие-то свободы, однако, изучив внимательно проект новой конституции, он понял, что государство еще жестче закрепляет закон об отделении церкви от государства и оставляет лишь за собой право на антирелигиозную пропаганду.
21 декабря 1936 года уполномоченный районного отделения НКВД выписал постановление об аресте десяти человек — священников, диакона, псаломщика и среди них архимандрита Ардалиона. 22 декабря, в тот день, когда начались аресты, отец Ардалион отправился навестить сына, служившего псаломщиком в Невьянске. 25 декабря отец Ардалион выехал в Верхний Уфалей, чтобы подать в финансовом отделе декларацию о доходах. Здесь он узнал, что священники Вознесенской церкви арестованы, и вернулся в Невьянск.
4 января 1937 года он был арестован и заключен в челябинскую тюрьму; на следующий день начались допросы. Отец Ардалион отрицал обвинение — участие в контрреволюционной организации, о существовании которой он даже и не знал. Тогда ему были предъявлены показания арестованных священников, в которых они оговаривали и себя, и его, но все их он категорически отверг. Наконец во время очередной очной ставки следователь сказал ему:
— Вам делается уже четвертый раз очная ставка по конкретным фактам вашей контрреволюционной деятельности. В данном случае по показаниям свидетеля изобличаетесь как непри миримый враг советской власти. Следствие предлагает прекратить заниматься запирательством и давать конкретные показания о вашей контрреволюционной деятельности.
— Следственная власть не только не может обвинить меня в контрреволюционности, а даже в простой нелояльности к ней. Показания свидетеля считаю ложными. Приписываемого мне разговора с ним не вел, хотя он был у меня в декабре с неизвестной для меня целью, — ответил священник.
22 марта 1937 года было составлено обвинительное заключение, в котором архимандрит Ардалион обвинялся в активном участии в контрреволюционной организации и, хотя «виновным себя не признал, но достаточно изобличен показаниями свидетелей и обвиняемых». 13 июня 1937 года Особое совещание при НКВД СССР приговорило его к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. К такому же сроку были приговорены и все обвиняемые.
После приговора отец Ардалион был отправлен в Котласский пересыльный лагерь, а затем в Ухтпечлаг и вскоре — в Воркутпечлаг.
В заключении архимандрит Ардалион прожил недолго — он скончался от истощения 29 июля 1938 года в стационаре лагпункта Адак (ныне нежилой населенный пункт Интинского района Республики Коми) и был погребен, как свидетельствует акт, подписанный ла герным начальством, «на гражданском кладбище „Адак“ в могиле глубиною 2 метра. Труп одет в нательное белье и положен головой на восток. К правой ноге привязана дощечка с надписью фамилии, имени, отчества и даты смерти. На могиле поставлен столбик с такой же надписью».