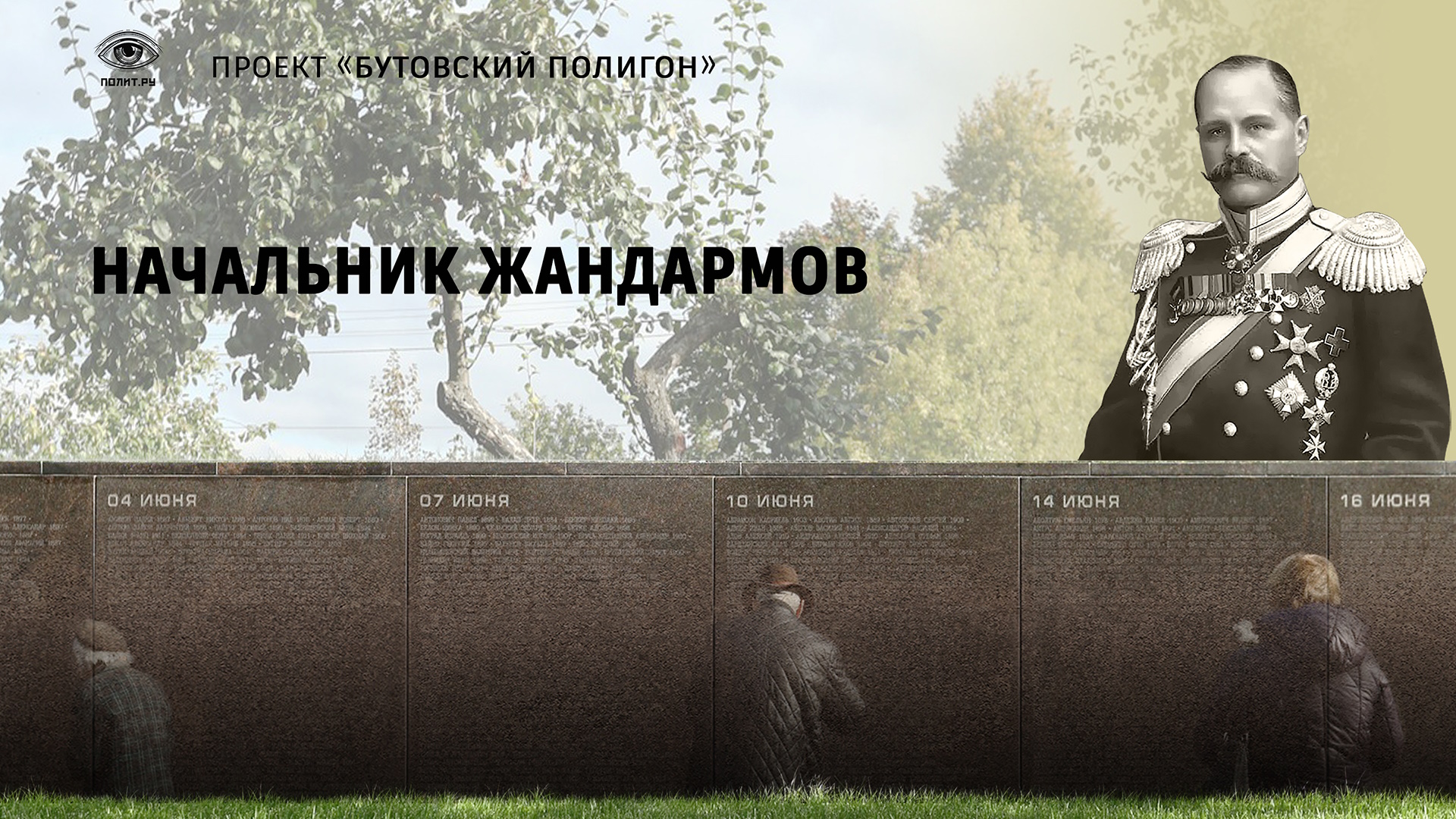Семен Шахмуть родился в бедной крестьянской семье в деревне Подлесье Ляховичского уезда Минской губернии. С детства его влекло к церкви: в то время как все играли в обычные игры, он часто из палочек делал крестики, надевал в качеств епитрахили передник и начинал «править службу». В 1915 г., когда Семену Шахмутю было 14 лет, умер его отец. Несмотря на крайнюю нужду, мальчик закончил Ляховичское двухклассное народное училище. В 1921 году оказался в Польше в связи с изменением государственных границ.
В 1922 году поступил в Жировицкий Успенский монастырь. 1 апреля 1923 года принял монашеский постриг с именем Серафим. У него были большие певческие способности, ему было поручено клиросное послушание, и он стал хорошим регентом и уставщиком.
В 1926 году его рукоположили в иеродиакона, а вскоре — в иеромонаха. Рукоположение совершил архиепископ Пантелеимон (Рожновский).
Иеромонах Серафим отличался как проповедник, чем обратил на себя всеобщее внимание.
Около 1937 г. его послали служить в Беловежскую пущу, откуда он возвратился с крестным ходом.
В 1938 г. участвовал в многолюдных крестных ходах с Жировицкой иконой для сбора средств на ремонт монастыря. Икона в специально оборудованном возу впервые в истории была вынесена из монастыря и начала обходить города и веси Гродненской епархии. Богослужения совершались не только в храмах, но и в частных домах. Вместе с о. Серафимом деятельное участие в этих крестных ходах принял его близкий друг священник Григорий Кударенко, впоследствии архимандрит Игнатий. Богу было угодно свести этих двух людей вместе, на четыре года войны объединить их усилия в деле миссионерского служения православной церкви в пределах Восточной Белоруссии.
В конце 1939 г. возведен в сан игумена, позднее — в сан архимандрита
В августе 1941 года по поручению митрополита Пантелеимона (Рожновского) архимандрит Серафим и о. Григорий Кударенко выехали в направлении Минска на оккупированные немцами территории для налаживания церковно-приходской жизни там, где она была разрушена большевиками.
Стремясь охватить как можно больше населенных пунктов, миссионеры направились в дорогу не поездом, а на лошадях. По дороге в Минск они посетили множество селений нескольких районов Минской области, где в недавнем прошлом действовали церкви. Везде они собирали от верующих прошения на имя митрополита Пантелеимона с просьбой об открытии приходских церквей, везде совершали богослужения, осматривали сохранившиеся церкви, избирали строительные комитеты для их ремонта, крестили детей, отпевали умерших, неустанно проповедывали. После прибытия в Минск о. Серафим и о. Григорий служили в Преображенской церкви бывшего женского монастыря.
В январе 1942 года, после непродолжительного служения в Минске, архимандрит Серафим и священник Григорий Кударенко, получив пропуск, отправились дальше в Восточную Белоруссию в сторону Витебска — с целью миссионерской проповеди. В Витебске о. Серафимом была написана краткая корреспонденция, напечатанная в газете «Новый путь», в которой рассказывалось об открытии церквей, описывалось с какой радостью приветствуют это верующие, в том числе молодежь и даже дети. Эти высказывания о. Серафима в дальнейшем были занесены в протокол следствия. После Витебска миссионеры посетили ряд городов и сел Восточной Белоруссии.
Некоторое время они служили в Гомеле, сделав его центром своей проповеди, одновременно часто посещая окружные приходские храмы. Недалеко от Гомеля, в Ченках, миссионеры открыли женский монастырь, собрав 30 сестер. Правда, монастырь просуществовал недолго, его закрыли в 1943 г.
Затем миссионеры выехали в Бобруйск и через некоторое время возвратились в Минск. Во время поездки в годы войны ими было открыто 74 храма.
Проповедникам не раз приходилось бывать в затруднительных ситуациях. В поездке о. Серафим смертельно заболел, у него открылся абцесс. О. Серафим настолько страдал, что мог взбираться на кровать только при помощи табуретки. Однажды, когда он был в спальне, начался налет советской авиации. Вдруг о. Серафим услышал голос, повелевший ему покинуть спальню. Тот же голос повелел позвать и о. Григория. Повинуясь, архимандрит Серафим с трудом добрался до кухни. Когда и о. Григорий пришел на кухню, в дом, где они находились, попала бомба. Один из осколков, не задев важные органы, вскрыл абцесс. Через пробитое отверстие вытек весь гной, вскоре это место зажило, и о. Серафим стал совершенно здоров. Таким образом, по Промыслу Божиему, фактически произошла операция без вмешательства хирурга-человека.
Везде, где побывал о. Серафим, он собирал материалы о тех преследованиях, которым подвергалась православная церковь в Белоруссии в довоенные годы. В этих материалах говорилось, что ко времени посещения им Восточной Белорусии на всей территории «не было ни одного епископа, при чем нигде не было (за исключением Орши) ни одного открытого для богослужения храма; что духовенство в большинстве своем и повсеместно было сослано, заточено в тюрьмы, а многие даже расстреляны; что церкви были превращены в клубы, театры, амбары и многие из них разрушены; что почти все церковное имущество было разгромлено и уничтожено безбожниками». По настоянию немцев, эти материалы о большевистских гонениях на белорусскую церковь были переданы о. Серафимом некоему Кольбауху из отдела пропаганды и их дальнейшая судьба неизвестна.
В 1943 году о. Серафим был назначен настоятелем Свято-Духовой церкви (ныне кафедральный собор).
В Минске о. Серафим принял на себя добровольное попечение над больницами города, инвалидными домами и детскими приютами. Его можно было часто видеть посещающим людей, обездоленных войной. Он исполнял свой пастырский долг неукоснительно строго.
В июне 1944 г., перед освобождением Минска Советской армией, о. Серафим и о. Григорий выехали в Гродно, где стали служит в храме монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. В Гродно они ходили по лазаретам: проповедывали, причащали раненных.
6 сентября 1944 года миссионеры были арестованы в Гродно за «пособничество немецким окупантам». В течение 5 дней их допрашивали в Гродно, а потом перевезли в минскую тюрьму.
На допросах арестованные священники держались с мужеством. Не скрывая от «следователя» своих взглядов, о. Серафим на вопрос, что он говорил во время проповедей, когда ездил по Белоруссии, прямо сказал, что часто обращался к народу примерно со следующими словами: «Россия была верующая. Верили наши предки, деды, прадеды, отцы, и теперь мы вновь заживем счастливо через веру. Нехорошо, что безбожники закрывали наши святыни, что ваши отцы и матери умирали без напутствия Святых Тайн и хоронились без священника, а дети росли не крещеные и не венчались...» Такие проповеди, по свидетельству о. Серафима, произносились им и о. Григорием часто и повсеместно.
Вот типичный, в ряду многих, допрос о. Серафима, состоявшийся 5 декабря 1944 года:
— Вам сейчас предоставляется полная возможность рассказать о своей принадлежности к немецким контрреволюционным органам. Рассказывайте!
— Агентом немецких контрреволюционных органов я никогда не был.
— Ваши показания не правдивы. Вы все время скрываете, что являлись агентом немецкой контрразведки.
— Мои показания правдивы, агентом немецкой контрразведки я не являлся.
— Вторично предлагаю рассказать о своих связях с немецкими контрразведывательными органами.
— О своих связях с органами рассказал все, других показаний по этому вопросу дать не могу.
Допрос этот, как значится в протоколе, был начат в 13.00, а закончен в 16.15, продолжаясь, таким образом. 3 часа 15 минут. Записано же в протокол было только то, что нами воспроизведено. Одному Богу известно, что пришлось пережить на допросах арестованным. Неудивительно, что согласно медицинской справке от 31 декабря 1944 г., имеющейся в следственном деле, которая подписана врачом внутренней тюрьмы, архимандрит Серафим в свои неполных 43 года страдал неврозом сердца. Их продержали под «следствием» ровно 10 месяцев, так ничего и не добившись.
7 июля 1945 года Особым совещанием при НКВД СССР о. Серафим был приговорён к пяти годам заключения в концлагере.
О. Серафима и о. Григория отправили в разные лагеря в 12 км друг от друга, находившиеся в Горьковской области, но им удавалось поддерживать связь друг с другом до смерти о. Серафима.
По воспоминаниям племянницы Надежды, из концлагеря о. Серафим сначала присылал им письма, просил посылку, ему отправили передачу и получили ответ, где он просил прислать, указывая на болезнь, еще чеснока и ягод. Но после второй посылки ответа уже не было. С этого времени связь с родными прервалась.
Пасху 1946 г. о. Серафим встретил в концлагере. По рассказу одного из духовных чад батюшки, переданном монахиней Полоцкого монастыря Наталией, в этот день он радостно приветствовал своих собратьев по заключению «Христос воскресе!» Это вызвало ярость лагерного начальства, и в наказание его поместили в карцер, где он находился по пояс в воде. Исповедник уже не надеялся выйти оттуда живым, но его силы были укреплены явлением Божией Матери с великомученицами Варварой и Анастасией Узорешительницей.
О. Серафим скончался приблизительно в 1946 году в тюрьме НКВД СССР, по официальной версии — от сердечной недостаточности.