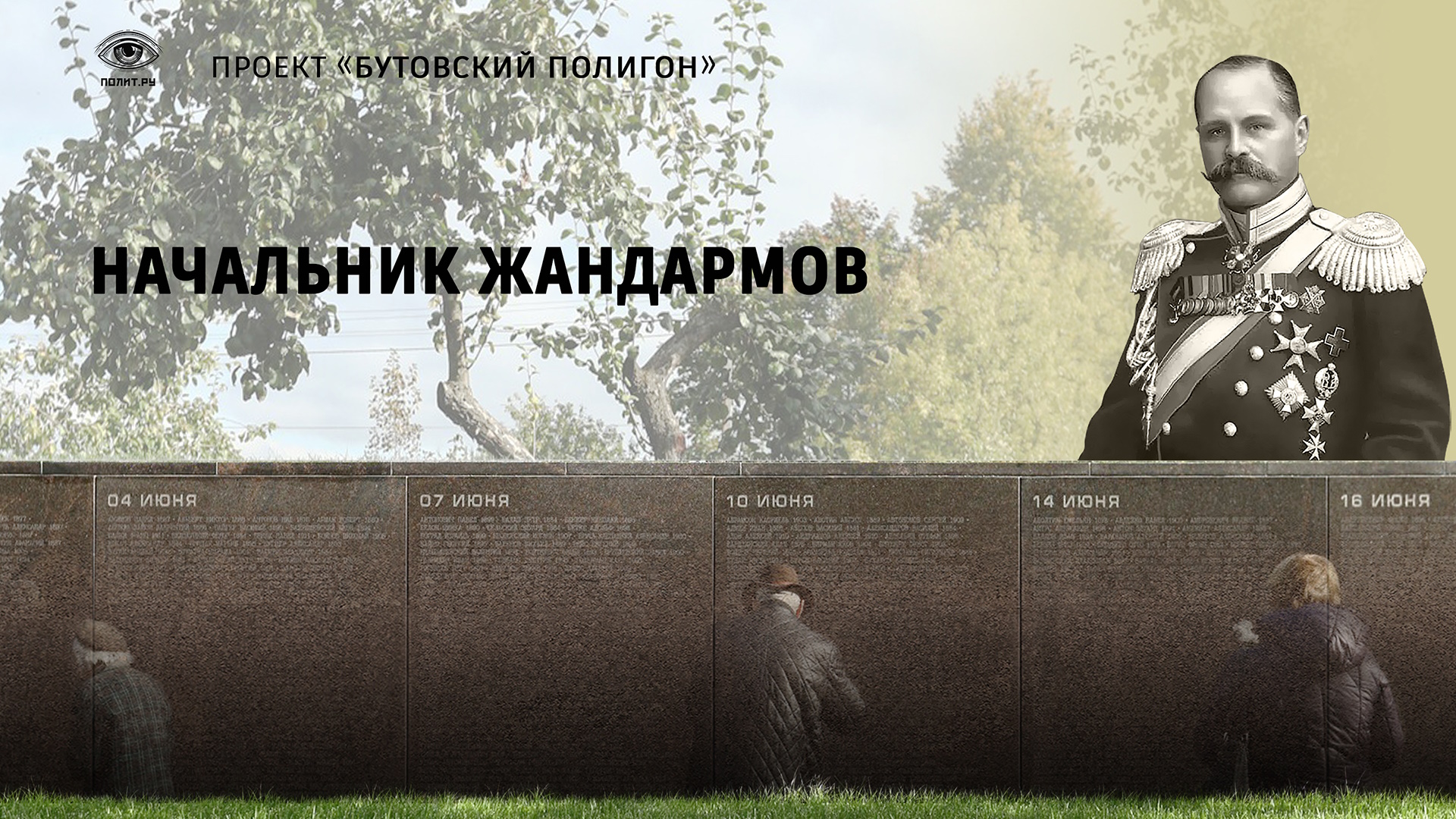Павел Кушников — сын священника из села Модно Устюженского уезда Новгородской губернии, трое его братьев стали священниками, двое из них пострадали за веру. Сестра вышла замуж за священника.
Окончил духовное училище, затем поступил в Новгородскую духовную семинарию, из которой был выпущен в 1905 году, 25 лет.
17 сентября 1905 года был назначен учителем Слудской церковноприходской школы, в семи верстах от родного селения, неподалеку от Филаретовой пустыни. 12 сентября 1907 года переведен учителем в Соминскую второклассную церковноприходскую школу (ныне село Сомино Бокситогорского района Ленинградской области), бывшую, наряду с Охонской, одной из двух наиболее представительных сельских церковных школ Устюженского уезда. 20 января 1909 года переведен на должность второго учителя Охонской второклассной церковноприходской школы Устюженского уезда (ныне деревня Охона Пестовского района Новгородской области). В 1913 году был назначен первым учителем (и по совместительству учителем пения) Охонской церковноприходской школы. Женился.
31 июля 1913 года определен священником к Бельской церкви Устюженского уезда (ныне деревня Бельское Чагодощенского района Вологодской области), где он был клириком последующие пять лет — вплоть до своей мученической кончины. На протяжении службы на Бельском приходе батюшка так и не приобрел собственного дома, а довольствовался небольшим домиком, устроенным прихожанами для псаломщика.
В годы Первой мировой войны и революции им была создана приходская общественная потребительская лавка, распределявшая продукты питания между жителями прихода. Управление лавкой было передано прихожанам. Впоследствии «делом стали управлять не лица, выбранные всем приходом и облеченные их доверием, а люди, не отличающиеся порядочностью, но нахальством, ибо они сами себя выбрали» После отстранения оных от управления, стали появляться ложные доносы в приверженности старому строю, что явилось фактически актом мести священнику.
В 1917 году донос на священника поступил в Устюженский уездный комиссариат. Ему было предъявлено обвинение в пропаганде неповиновения новому правительству. Поводом к обвинению послужила проповедь священника в Вербное воскресение на тему «Как строить», в которой он раскрыл смысл отрывка из Евангелия от Матфея (Мф. 7, 23-29). Негативно настроенные крестьяне с. Бельского обвинили священника в приверженности монархическому строю. На основании прошения в мае 1917 года Святейший Синод начал исследование по данному делу.
Большинство свидетелей говорило, что прямо против новой власти батюшка не агитировал. В использованных им в проповеди образах дома, построенного на камне, под которым подразумевался дом Романовых, просуществовавший 300 лет, но разрушившийся, и что теперь нужно строить новый дом. Батюшка доходчиво объяснил сложившуюся на тот момент ситуацию, в чём некоторые увидели отрицательное отношение к временному правительству. Но, по словам многих свидетелей и очевидцев происходящего, священник, наоборот, призывал народ к единству, послушанию власти: «Чтобы быть едиными, будем слушаться объединенной воли нашего временного правительства и отвергать силою всякие попытки властвовать со стороны. Власть должна быть на Руси одна, иначе Русь распадется и нас заберут живьем голыми руками!»
Прихожане написали ходатайство, свидетельствуя, что в своих проповедях отец Павел не говорил ничего предосудительного, заверив заявление более чем 300 подписями. По данному делу батюшка был оправдан.
Поводом к расправе над священником послужили следующие события:
«Четверо интеллигентных молодых людей из бывших военнослужащих и один студент отправились из г. Устюжны в Петроград — первые для приискания занятий, а студент для специальных своих работ. Это были: возвратившийся из германского плена, израненный (16 ран) герой войны, георгиевский кавалер, поручик 4 Сибирского полка Александр Моденский — 23 лет, устюженские уроженцы Александр Тюльпанов, Александр Примов Александр Яковцевский и студент Петроградского университета Николай Екатерининский — все в возрасте от 18 до 20 лет. Поехали они компанией, вследствие дороговизны поездки на лошадях. По дороге путешественники посетили родственника Моденскому и Тюльпанову священника с. Бельского о. Павла Кушникова.
Проезжая отсюда к ночи через усадьбу Борки, они попросили ночлега в этой усадьбе, для чего им была отведена комната для рабочих. Но владелица усадьбы, не ознакомившись обстоятельно с личностями посетителей, встревожилась и послала за соседними крестьянами. Между тем молодежи сообщили, что за ними устроена охота. Не желая никого беспокоить, молодые люди поехали дальше, несмотря на ночное время, сбились с дороги, вымокли в реке Кобоже и заехали обсушиться в деревню Привороты. Здесь они были неожиданно арестованы местным населением. Причину ареста надо искать в слухах, ходивших в этой местности, что по деревням ездят конокрады и грабители, и слухи эти распущены были каким-то проезжим из Устюжны только что перед поездкой несчастных молодых людей.
Арестованных свезли в с. Белые Кресты, где имеется Исполнительный комитет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и при нем небольшой отряд Красной армии с соседнего завода, которые и приняли арестованных в свое заведение. В Устюжну же телеграфом сообщено об аресте, и отсюда Исполнительный комитет выслал двух своих членов для производства следствия и суда. Суд состоялся 21 февраля (ст. ст.). В нем приняло участие до 300 крестьян, а президиум состоял из местного исполнительного комитета с прибавкою двух делегатов от Устюжского исполнительного комитета. Первым было предъявлено обвинение в конокрадстве и ограблении, что сейчас же было отвергнуто как нелепое и ни на чем не основанное. Все присутствующие с эти согласились. Второе обвинение — в контрреволюционном направлении, выражающемся только в образе мыслей, а не деятельности, потому что для последней также не было оснований, вызвало резкое столкновение между обвиняемой и обвиняющей сторонами. Известия с места передают следующее. В сознании своих заслуг перед родиной и понесенных во время войны страданий, не вылечившийся еще от ран Александр Моденский обратился к народу с пылкой речью, в которой заклеймил своих обвинителей в уголовном прошлом и призвал народ к созданию власти из людей безупречных и самоотверженных деятелей для народной свободы и общего блага. Студент Екатерининский в такой же речи поддержал его.
На решение народного суда был поставлен вопрос: расстрелять ли обвиняемых или отпустить на свободу. Народный суд, против 5 голосов президиума за расстрел, отвергнул первые обвинения, по поводу же обвинения вконтрреволюционном направлении и принадлежности к какому-то «белогвардейству» высказался так, что он — народ — не понимает, что такое «белогвардейство», а потому постановляет отправить этих молодых людей в Устюжну для рассмотрения этого обвинения в Уездном исполнительном комитете и, во всяком случае, не признает и не соглашается на смертную казнь их. Об этом был составлен протокол и подписан.
Обвиняемые остались под арестом до отъезда. Но к 10 часам утра 22 февраля все они оказались убитыми. Местные известия приписывают это злодеяние членам местного исполнительного комитета вместе с приезжими из Устюжны двумя членами; говорят также и о мучениях, которым подверглись арестованные на вторичном ночном допросе, произведенном только одними членами Исполнительного комитета вместе с приезжими, и указывают на кровь по стенам и на полу помещения, где допрашивали, говорят о простреленных ногах предварительно предания их смерти, об их ограблении. Убитые зарыты за деревней в одной яме«.
22 февраля 1918 года и о. Павел был неожиданно арестован двумя делегатами от Устюжского исполнительного комитета, участниками вышеописанного злодеяния, обвинен в сокрытии оружия для «белогвардейцев», хотя при обыске ничего не было обнаружено.
23 февраля/8 марта 1918 года о. Павел был выведен за село Бельское к болоту, застрелен и тут же зарыт.