Андрей Левкин Сначала - время и место. Мы разговариваем в Красноярске, во время IV-го КРЯККа, то есть Красноярской книжной ярмарки. Я там был со своей книжкой, Кирилл — как человек из жюри премии «НОС», но разговор не об этом. Впрочем, первый вопрос прямо связан с временем и местом: Вы рассказали между делом, что приехавшая сюда французская славистка Элен, которая работает сейчас в их посольстве в Москве, жаловалась: ей, по долгу службы, сейчас надо продвигать новый образ Франции в России. А это оказалось сложно. Что у них за проблемы с Россией?
Кирилл Кобрин Мне кажется, там такая история: понятно, что французское государство тратит большие деньги, чтоб продвигать всё французское. Французский язык там, Дерриду... В общем, все равно, что продвигать, лишь бы французское. И вот я разговариваю с человеком, который должен этим заниматься в России, а он уже не понимает: «Что продвигать?». Раньше было понятно, что это такое, «французское». Для советского человека это «Chanel №5», французская кухня, еще что-нибудь. Этого уже ничего нет. Дерриду с Батаем – это тоже закончилось, их уже никто не помнит. Французское кино тоже кончилось довольно давно. Какие-то, не знаю, Брель, Брассанс - тоже не то. Вообще непонятно. А продвигать что-то надо. Надо что-то такое изобрести, чтобы в России французское срочно снова полюбили.
А.Л. Эта проблема у них сейчас только в России или повсюду?
К.К. Скажем, в Британии сейчас вдруг возникла чуть ли не мода на французскую литературу - среди определённой части писателей. Они её никогда не читали, они вообще там ничего не знают после Флобера или Пруста. Но они почему-то сейчас начали изучать Перека, изучать ситуационистов. Все, что проиграли на континенте шестьдесят-пятьдесят лет назад, а они теперь открыли для себя, но с какими-то своими выводами. Они там какие-то романы пишут сейчас, связанные с этими писателями. А в России... ну, невозможно же заставить русского писателя прочитать какую-то книжку. Тем более переводную. Абсолютно невозможно.
А.Л. Ну да. В крупных издательствах все определяют отделы маркетинга, а кто же им верит.
К.К. Совершенно верно. И читать никто не будет, и вся надежда только на людей, которые, прежде всего, слушают музыку. А тут есть всё-таки французская электроника, которая там довольно развивается мощно, французский рэп, который вдруг внезапно стал таким.
А.Л. Но это же не для России, в России этого не знают.
К.К. Этого не знают. Но электронику, мне кажется, знают всё-таки, Daft Punk – группа довольно известная.
А.Л. Я знаю Daft Punk довольно давно, только мне в голову не приходило, что это французы.
К.К. Это французская группа, а так у них всякие лаунж, Gabin – электронные группы, которые в сущности... в России же любят французские мелодии, да? Вся эта эстрада – её до сих пор любят. А эта электроника, она же построена на мелодиях таких нежных, романтичных и так далее, поэтому какой-то шанс тут есть. И в сущности я бы на их месте, не дай бог оказаться на их месте, я продвигал бы все арабские дела, которые есть во Франции. Рашид Таха, это настоящий драйв, настоящее злое, городское и так далее.
А.Л. Что ли на две общины сразу?
К.К. В том-то и дело. С одной стороны это политкорректно. А с другой стороны – это неполиткорректно, потому что французские арабы абсолютно неполиткорректные. Они же ненавидят...
А.Л. А когда французы ощутили это проблему с Россией?
К.К. Мне кажется, они ещё просто не думали об этом. Но вот вы там вдруг начинаете работать в стране, в которой — как это было у нас в конце 80-х – начале 90-х, - любой человек, который писал по-французски с 1924 по 84 год вдруг становится знаменитым... Все эти философы и так далее. Тут же ничего не надо делать, вам просто даются деньги на переводы, их переводят, расхватывают и любой аспирант начинает читать и вставлять в диссертацию.
А.Л. А почему так было?
К.К. Есть банальное объяснение. Раньше были Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Потом наступили новые времена, надо было поменять имена в сносках. Гуманитариям же надо, чтобы были какие-то теоретические основания. Те, которые повеселее, взяли Льва Гумилёва, Бахтина. Но всегда же есть русские люди – западники, им нравятся какие-то другие красивые фамилии. Деррида - красивая фамилия, Бурдьё – очень красивая.
А.Л. То есть, мы уверены, что общие основания должны быть обязательно, потому что без этого никак. А связность при этом предполагается?
К.К. Нет. Надо понимать, что всё-таки в англоязычном мире, не считая американской части, там просто не было книг, которые всё объясняют. А во Франции их полно. Они ж только этим и занимаются. Что такое структурализм – это когда придумываются универсальная отмычка, которая открывает абсолютно всё. Поэтому, мне кажется, тут идеально совпало. Ведь в России, в Советском Союзе структурализм тоже был и это как бы тоже часто воспринималось именно таким образом. Именно тут идеально совпало. А потом все-таки стало понятно, что за всеми общими словами что-то стоит, должно стоять.
А.Л. Меня в этой истории вот что интересует: мы уже в нашем возрасте 50 (плюс-минус пять) уже видели много всяких разных структур. Ну а каждая структура — да хоть развитой социализм, прости господи, - связана с бесхитростными гражданами, вполне в эту структуру влипшими. Так что, по сути, за последние лет тридцать люди уже раз пять-шесть полностью переменились. Но нет, ведь они так не считают. Они считают себя прежними. Что ли в самом деле осталась какая-то такая штука, которая их содержит в этом единстве сознания? Или, по крайней мере, уверенность в том, что такая штука существует.
К.К. С одной стороны да, с другой... Вообразите себе человека, который учился, условно говоря, в РГГУ в 90-е годы. Все эти Барт, Фуко... А потом он устраивается в банк или в другое столь же приятное место. Работает сейчас, предположим, в администрации кого-нибудь. Но это же другой абсолютно человек. Вот ему скажи «Фуко», «Барт», в нем даже ничего не дрогнет. Значит, это ушло навсегда. Значит, это другой человек. Это как в буддизме. Концепция перерождения и прочее, а вот вопрос ключевой для буддизма: а что перерождается? Это же не тот самый человек.
А.Л. Так вот я ведь ровно об этом. Мы были в Советском Союзе, мы были в непонятном межеумочном состоянии, потом в следующем межеумочном, теперь в каком-то типа структурированном, суверенно и вертикально. Тем не менее, несмотря на то, что этот человек на Фуко уже не резонирует, он факт своего перерождения не уловит. Воспринимается какая-то непрерывность. То есть вопрос да, - что на самом-то деле перерождается и из чего тогда собирается рамка, которая позволяет не обращать на это внимания?
К.К. Ну, это буддистский вопрос, потому что в буддизме «Я» не существует. Это набор неких «агрегатов», скандх. И вот каждый раз набор разный.
А.Л. Я об этом: поскольку он возникает, то всегда же есть потенциальная возможность, что вот вы просыпаетесь утром, а рамка уже внезапно сменилась.
К.К. Между прочим, в 91-ом году это произошло.
А.Л. Да, я об этом. И что происходит дальше? А, в общем, ничего, неделька-другая и всё как-то так опять по-прежнему.
К.К. Отсюда, на самом деле, очень оптимистический вывод. Потому что в сущности получается, что вообще ничего не было в России. То есть всё время действуют какие-то разные люди, хотя формально это один и тот же человек, но это разные люди. Значит, за предыдущий базар никто не отвечает. Тогда снимаются все вопросы по поводу исторической памяти, кто за что виноват, кто чего сделал и так далее. Это просто совершенно другие люди.
А.Л. Но они же не снимаются, эти вопросы.
К.К. Ну, это, видимо, фантомная боль. Нет людей, которые это бы объяснили мне. Просто нужно, чтобы кто-то вышел, ну, я не знаю,... Максим Соколов. И сказал что, вот, мол, «я , Максим Соколов – это не тот Максим Соколов, который был, там, не знаю, в 1999 году. Это был другой человек. И за его базар я не отвечаю, и я призываю вас не отвечать за свой собственный базар» и так далее. Тогда это будет нормально. Или даже какой-нибудь министр или советник по идеологии «Единой России». Просто им надо разработать концепцию государственного буддизма.
А.Л. Государственный буддизм – хорошо. Но обратный вариант тоже любопытен. Я могу вспомнить кучу каких-то схем, которые производили, не знаю... сложение сознания, поведения и всего остального, там, ну в 70-е годы, 80-е годы. Понятно, что его могу воспроизвести, потому что вариантов было мало, элементов, которые это штамповали, тоже было немного. Вот до сих пор все цитируют «Кавказскую пленницу», «Иронию судьбы» и т.п.
К.К. Потому что мало было всего.
А.Л. Мало всего было, да, хотя там уже наблюдались существенные различия, допустим, в области интеллигенции. Я, скажем, недоуменно глядел на коллег, которые слушали/цитировали Жванецкого, ощущая явный культурный разрыв. Тогда что получается, что сейчас всего много, но оно мельче? Структурировать, набрать из него очень такие мощные всеобщие схемы нереально. Чтобы несколько базовых схем на выбор и — упс — а вот и сословия и все прочее. В новых исторических обстоятельствах.
К.К. Понятно, это проблема и структурирования, и фильтрации… да, потому что действительно много всего.
А.Л. Да, фильтрация тут явно главная, поскольку куча всего просто не доедет. То есть даже не целенаправленная, а по факту. Но и с той стороны, что просто не надо. Какая мне разница, что там пишут в журнале О'Кей каком-нибудь.
К.К. Но ведь это главный вопрос! Тем не менее, эти вещи существуют. Это очень странно. Вот на ярмарке куча книг. Идёшь и понимаешь без всякой иронии, мол, вот какая сокровищница. Книг -- миллион и из них треть хороших, которые отмечаешь для себя. Было бы две-три жизни, я бы прочитал вот это, вот это, вот это. И, смотрю, стоит книга знаменитого английского эстета конца 19 века Уолтера Пэйтера, с которого наш Павел Муратов делал «Образы Италии». Эта книга невероятно утончённая. Невероятно утонченная. Уолтера Пэйтера (во вторую очередь за Рескиным) любил Пруст. И вот я представляю русского человека, который покупает эту книгу, русскую. И читает. Я не могу себе представить - не потому, что русский человек плохой или хороший. Нет. Просто это книга – как бы – не о нем, не о времени, ни о чем таком, с чем он живет ежедневно, или даже в какой-то там перспективе. Я, безусловно упрощаю, но, надеюсь, в таком разговоре это можно себе позволить. Помимо Пэйтера, есть ещё сотня - тысяча таких же книг. Они как-то выходят, их как-то продают, раз они выходят. Худо-бедно, но всё равно продают. Где всё это оседает и какое это имеет влияние на что-либо?

А.Л. Моя тридцатилетняя коллега недавно риторически задумалась почти на эту тему. Вот же, сколько хороших книг печатается, не говоря уж о том, что их еще и написали. Должны же, значит, где-то быть умные люди. Скорее всего, они есть. Но где прячутся, поскольку общественной представленности особой нет. Ну, говорю, может жизнь так и устроена, что они по факту не имеют тяги к самопромоушену. Да вот, сидят где-то, и ладно. А те, кто публичные — это из другой истории. Так уж устроено.
К.К. В советское время, например, тоже. Притом, что было всего мало. Вот мы сейчас зашли в красноярский «Букинист», видели «Литпамятники». А они выходили тогда со страшной силой, в том числе самые экзотические и совершенно, казалось бы, никому не нужные. Тем не менее, это стояло, я видел лично, в библиотеках у людей, дома стояло. Значит, кто-то их открывал. А что из этого произошло? Может быть, чтобы кто-то из тех людей, которые, к примеру, сейчас рулят АВТОВАЗом, читали тогда «Нибелунгов» или «Исторические записки» китайца Сыма Цянь. Совершенно непонятно. Когда я был совсем юный, судьба столкнула меня с певцом Гребенщиковым. Мы сидели у него дома, он говорил- говорил- говорил, после чего мы (нам было лет по 20), на следующий день пошли и купили в магазине только что вышедший литпамятник «Похищение быка из Куальнге».
А.Л. Я знаю этот томик, он тогда был чуть ли не в каждом букинистическом отделе.

К.К. Да-да-да. И вот вместо того, чтоб купить портвейна, мы пошли и купили каждый, нас было четверо, по экземпляру «Похищения быка из Куальнге». Что эта книжка со мной сделала, я примерно знаю - я ее прочитал и обогатился выражением «бросок лосося из-под воды», которым описан какой-то боевой приём Кухулина. А вот с моими друзьями – не знаю, думаю, что никак. Думаю, что в постсоветское время произошли не очень большие изменения – в этом смысле история с Уолтером Пэйтером показательная. Ну, или Тарковский. Ведь столько людей смотрели Тарковского. Понятно, что там же полное какое-то несовпадение, интенции автора и человека, который это собирается смотреть. Он почему-то это хочет смотреть.
А.Л. Это какой-то был такой был затухающий «большой стиль» вот с этой нормативностью.«Памятники»-то ладно. Ещё советская «Библиотека всемирной литературы» – это же фактически выстраивание ряда. Даже не могу понять, как это называется. Это мир какой-то фильтрации. Всё имеет свое место: должно иметь. По-моему, литераторы страдают. Вот есть где-то фильтрация, через которую проходишь или не проходишь. Надо занять какое-то место.
К.К. Ты должен встроиться в литпроцесс. Сегодня вот мы дадим премию этому, потому что вчера ему не дали, а он с этим соотносится каким-то образом: он на полочке стоит с тем-то.
А.Л. Не могу объяснить: это не производство вечности, не производство идеологии, это что-то другое, очень смутное, но внятное.
К.К. Давайте зайдем с социальной стороны – вдруг получится? Начну издалека: суть всего большевистского переворота, она в чём была: разорвать социальные молекулярные связи, разобрать молекулы на атомы. Там ведь было какое-то общество и горизонтальные связи (молекулы, что ли); большевики решили деклассировать всех, оставшихся в живых после Гражданской войны, превратить в атомы. Ну, можно там, не знаю, заниматься публицистикой, сказать, «атомами лучше управлять» и так далее. Но они этого хотели. Большевики мечтали из этих атомов новые – свои -- молекулы сложить. А они не сложились. И они как-то там дожёвывали эту историю до конца Советского Союза. Но когда кончился Советский Союз, то любые попытки создать молекулы из этих атомов просто исчезли. И сейчас всё совершенно дискретно. Разговоры про национальную идею – они бессмысленны, потому что невозможно. Люди в России – они как… Черт, а помните, была такая искусственная черная икра.

А.Л. Да и сейчас есть, по-моему.
К.К. Когда талоны были в конце 80-х, это была совершенно потрясающая вещь, я ее обожал. Я эту икру покупал в экспериментальных целях и наблюдал за ее поведением: вывалишь ее на блюдце, а икринки отталкиваются друг от друга. Между ними, видимо, пробегал электромагнитный разряд, или что-то такое.
А.Л. Разбегались по тарелке?
К.К. Да, они просто не могли рядом находиться. Потом я понял -- когда пытался смотреть какие-то постсоветские фильмы – что их невозможно смотреть по одной простой причине: актёры не в состоянии понять, что они играют вместе. В любом кадре они отталкиваются как вот эти икринки: каждый как будто существует только в своём бенефисе. Каждый исполняет свою роль и уходит. Но и обычные люди так же. Просто люди не в состоянии нормально выстроить горизонтальную связь. Вертикальную запросто -- им власть какие-то пробирки предлагает, они туда набиваются. А горизонтальные – нет, они отталкиваются друг от друга. И эта история с Уолтером Пэйтером – она совершенно такая же. Есть такая икринка, вот условно назовём её Уолтер Пэйтер, и вот она здесь на краю тарелки, а вот ещё какая-то, и еще какая-то, каждая ни к чему другому не относится и ни с чем не соотносится, и ни к чему не приведёт. Просто ничего ни к чему не приводит.
А.Л. Словом, дело дрянь. Но я это давно понял. Где-то в Европе в начале 90-х, когда я там увидел совершенно безобидное издание, компакт-диск, что-нибудь там «The best of что-то». Стало понятно, что вот, началась такая нарезка. Это уже все для чего-то другого. Не очень даже понятно, для кого и что это может быть за среда, в которую закидывают такие сериальные наборы. Вряд ли тут присутствует личная заинтересованность со стороны потребителя. Вряд ли же это какое-то искреннее насыщение чувств. И уж тем более, не затем, чтобы прослушали Зе бест и, заинтересовавшись, отправились искать дальше. Тоже какая-то предлагаемая нормативность, по сути совершенно беспредметная и бессмысленная.

К.К. Начались еще эти диски с МП3, скажем, один CD, а на нем, условно, весь Дэвид Боуи. На одном диске. Просто такая каша, которую покупаешь, даже не каша, а маргарин, который намазывается на хлеб жизни. И лучший способ убить какие-то чувства к чему-либо – это купить такую штуку, поставить её и она будет целый день играть. Но в этом смысле технологии, они как-то хитрее и, может быть, даже человечнее. Вот нынешняя идея, что можно музыку качать, притом — отдельными песнями, уже избирательность, а потом составлять плейлист – это всё-таки возвращает нас, как ни странно, к индивидуалистскому 19 веку, началу 20-го. Мне кажется, что сегодня вообще самое «человеческое», «персональное», «индивидуальное» связано со сферой технологий – как ни странно.
А.Л. А вот книги. Скажем, то, что называется «классика». Ей уже никуда не деться – это обязательная программа, она обязательно размещается в мозгах граждан страны. Русская литература, 19 век. И не важно, что это давно не она сама, а традиционные интерпретации (новые интерпретации не выживают). Давным-давно в школьных программах. Но интересен промежуточный вариант, вроде как классика, но не совсем — по долготе употребления в этом качестве. Вот Цветаева, Пастернак. Они как-то реально существуют сегодня или нет?
К.К. Мне кажется, нет. В том-то и дело. Их, во-первых, совершенно невозможно расшифровать человеку современному, ну, обычному читателю. О чем, к примеру, «Сестра моя жизнь»? Где сегодня это всё? Где эти слова? Почему тогда говорились именно эти слова по этому поводу? То есть, такой книге надо еще контекст какой-то создавать, чтобы это понять, либо…
А.Л. Но там с контекстом сложно, он слишком частный.
К.К. Естественно. Тогда «Сестра моя жизнь» была событием, потому что это соответствовало неким лирическим переживанием интеллигентов, переживающим революцию. Или переживших революцию. И вот это совпало.
А.Л. Воспринимались ли это все позже?
К.К. Мне кажется нет. Или только поздний Пастернак, который просто написал некий список стихов для советской интеллигенции. Простых, чтобы всё было ясно, что вот это так, это так, хотя там тоже есть вещи, которые просто так не… у него есть стихотворение «Вакханалия», которое кончается замечательной фразой, тоже буддистской: «На кухне вымыты тарелки. / Никто не помнит ничего». Он не простой был человек. Та же самая история произошла, ну, ещё хуже, с Цветаевой. С Цветаевой-то вообще непонятно, о чём это. Чего она так суетится, чего она так кричит? Зачем это всё нужно? Понятно, такая культурно-психологическая роль есть. Но к самому человеку, некрасивой женщине с чёлкой, это тоже не имеет никакого отношения. И к ее стихам, к интенции ее стихов. Мне кажется, возможность понимания давно умерла, ещё в советское время.
А.Л. Чем дальше, тем я с недоумением ощущаю, что в случае с Мандельштамом мы, по сути, имеем манерное косноязычие, вполне банальное по смыслу. Если в поэзии это еще как-то превращается в мантру и, типа, священное безумие , то в прозе эти бла-бла-бла ничем не прикрыты. К слову, мне совершенно не хотелось производить такой пересмотр. Ну, я ощущаю ответственность за данную оценку, а как же.
К.К.Там ещё вот какая история. Мандельштаму повезло в том, что он питерский. Акмеистический Мандельштам – это местный канон такой, да, который воспроизводят десятилетиями – своего рода конвейер по сборке стихов, поэтому это не столько живо, сколько существует в виде инструкции, как в цеху висит инструкция, как себя надо вести на производстве. В этом смысле акмеистический Мандельштам, безусловно, жив ещё как-то. А вот поздний – нет, конечно, нам же тоже непонятно, о чём это. Просто непонятно. Вообще, всё непонятно, если серьёзно говорить.
А.Л. Я, если вообще как-то социализируюсь, то думая о всяких маленьких лейблах. Ну как когда-то музыкальные: вот строго такая музыка. Компакт.фм допустим. Пишут туда и там по факту живут, а остальное — кого ж волнует. Так что также бы хотелось небольших издательств, где можно было бы спокойно печататься, с чем и идентифицироваться. То есть, тут же и внутренние лейблы, уточняющие, где именно находишься сам. Сколько в таком соотнесении естественности, а сколько натяжки — ну типа как налог на социализацию, что ли. Да, наверное все равно как-то себя куда-то встраиваешь. Но куда ж теперь, потому что куда-то распались лейблы — ну, даже не издательские, а в обобщенном виде. Может этого и не было никогда, но вот хочется, чтобы по крайней мере было, если уж теперь невозможно. Редкая оставшаяся иллюзия.
К.К. Но эти, говоря вашими словами, маленькие лейблы, в конце Советского Союза, они существовали. И некоторые из них, несмотря на то, что об их существовании мало кто знал или никто не знал почти, всё-таки они давали довольно разумное представление с эстетической, с какой угодно... с философской точки зрения. Всё-таки неподцензурная литература 80-х годов, это была довольно мощная вещь, которая давала понять: вот это – хорошо, а это – плохо. Это не нормативная была эстетика, но она исходила из каких-то довольно глубоких представлений о мире. И очень характерно, что эти люди не то, что оказались в 90-е лузерами, просто их нет. Они есть физически, они что-то воспроизводят, но в общем-то их нет. В 70-е есть какие-то очень важные вещи. Леон Богданов. Кто сейчас помнит, кто такой Леон Богданов? Я думаю, что если бы НЛО эту книжку не издало в начале нулевых, никто бы не издал её никогда. Но за этим стоит не то, чтобы большое мировоззрение, но есть как бы некая возможность выстраивания.

А.Л. По-хорошему эти маленькие лейблы надо было каким-то вот волонтёрам обустраивать, потому что сами-то акторы обустроить это не могли, а дело было стоящее.
К.К. Конечно, такие люди, как упомянутый Леон Богданов, ничего обустраивать не стали бы, они отыграли свою функцию и сделать ничего не могли. Там не было функционеров, это правда.
А.Л. Все куда-то пропали. Странно, в общем-то. Ну, не все, но многие же.
К.К. Вспоминаешь о них, когда они умирают. Вот, с Александром Мироновым. Миронов недавно умер, мне попадались в 2000-х его новые стихи, а пару недель назад я прочел книжку, которое до его смерти издало «Новое издательство». Я понял, насколько это потрясающий поэт и как он здорово писал в «нулевые». Но это не то, что, мол, неблагодарные читатели, которые... этого не было. Тут другая история. Она не о читателях. Она об искусственной икре.
А.Л. Получается, просто сейчас нет каких-то минимальных точек даже локальных соединений. Ну, локальной сборки. Хотя нет, вот тот же НЛО, это же серьезно. Они, в общем, такое тотальное издание, которое забрало в себя все небольшие лейблы, при которых могли бы работать свои авторы? Может, потому их и нет больше?
К.К.Ну, хорошо, история с тем же Леоном Богдановым. Кроме НЛО этого никто бы не напечатал. Но ведь никто не мешает продолжать - он ведь не весь издан. Или там, история с Евгением Харитоновым, которого когда-то издал Шаталов, двухтомник. И с тех пор ничего не было. А ведь в данном случае перед читателем возможность не только эстетического, но и социального «другого». Но это никого не интересует; к тому же, нет людей. А нет людей, потому что нет интересов, а нет интересов - потому что атомы. У всех теперь судьба Уолтера Пэйтера.
А.Л. Но странно получается, вот стилистически, даже социально, как угодно, на общество людей у нас наберется. Но все равно все атомарное. Система привязанность в разные точки зрения к чему-то - быть может, но при этом отсутствует реальная стягивающая сила.
К.К. Ничто ни к чему никак не относится. Скажем: все эти разговоры про «великую историю» и прочая подобная шарманка -- но это же фэйк, не только потому что это пропаганда, но это фэйк, потому что в головах людей, которые это говорят, нет никакой связи с историей. Нет ощущения, что они часть истории. Что они за какие-то вещи в связи с этим за что-то отвечают. Эта знаменитая история про банкет, чей это был банкет? Столы, бутылки, официанты такие стоят – а все на фоне стелы с расстрелянной царской семьей (или что-то в этом роде). Это был либеральный банкет.

А.Л. Юбилей «Эха Москвы».
К.К. «Эхо Москвы», да. Это же надо понимать, что это люди, профессия которых напоминать о том, что у нас была страшная история, и надо, чтобы она не повторилась и так далее...Это же не эстетическая глухота даже. И даже не моральная глухота. А просто в сознании не возникает мысль о том, что эти вещи могут быть связаны. Вот эта стела – она стоит и не понятно, что выражает – это один атом, одна дхарма, как сказали бы буддисты, а вот наш банкет – это другая дхарма, и они никак не соотносятся совершенно. Меня удивила эта фотография не тем, что это нелепость, мало ли нелепостей происходит в мире. А вот именно тем, что наглядно продемонстрировано отсутствие всякой связи чего-то с чем-то… Сейчас была замечательная история на ярмарке. Я не помню какое это издательство, ну и не буду говорить, они выпустили несколько книг Битова. Иду рядами, ярмарка – много рядов. Вдруг смотрю - стоит книга, на книге фотография, красивая фотография, полурисунок–полуфотография Сталина. Думаю, как интересно, героическая совершенно. Подхожу ближе, надпись: Андрей Битов. Думаю, Битов написал книгу о Сталине (что уже смешно), приглядываюсь, так это же Битов, а не Сталин. Дело-то не в том, что это удачная или неудачная фотография, Битов не похож на Сталина внешне, а в том, что людям в голову не приходит, людям, которые делают книжки, как это на самом деле выглядит. То есть, Сталин существует в одном кармашке, а Битов в другом, а художник этого издания в третьем. Связи не возникает. С другой стороны это обратный дает эффект: у атомов тоска наверное существует, скажем, чтобы слиться в молекулы. Все равно фантомная боль-то есть. Отсюда эта одержимость бесконечными идеями, что все со всем связано, как у Фоменко. Понятно, что одержимость этими идеями возникает только тогда, когда есть тяга к… Когда есть абсолютная отъединенность, но фантомная тяга возникает.
А.Л. Как вы сами считаете, в какой мере в этой оценке существенно то, что сами вы большую часть времени сейчас не в России?
К.К. Good question, как говорил Билл Клинтон, когда его спрашивали про Монику Левински. Ну, во-первых, я здесь часто бываю и нахожусь внутри и снаружи разом. Не буду говорить о том, что снаружи лучше видно: иногда лучше, иногда хуже. Но я продукт этого места, этой страны… не стану кокетничать, не буду говорить, что вот я - совершено иной человек. Но, посмотрев, как устроены другие миры... они не лучше, не хуже, но - другие, начинаешь понимать как ты сам устроен. Ведь все, что я говорю, я говорю о себе, я же тоже такой же атом, как и все остальные. Другое дело, что в силу профессиональной привычки, как историк по образованию, я автоматически какие-то связи нахожу, и, скажем, сразу отмечаю про себя ошибку, когда в уважаемом британском издании написано, что «в 1938 году в Израиле негласно запретили исполнение Вагнера».
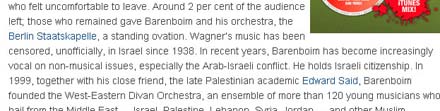
Это было интервью с Баренбоймом, а в предисловии девушка, которая брала интервью, написала, что вот, с 1938 года, в Израиле… И это прошло через редактора и никто ничего... и Баренбойм не возмутился, хотя я думаю, он видел это. Но это привычка у меня такая: замечать исторические нелепости, а на самом деле, я такой же атом, как и все остальные.
А.Л. Но вот получается, что в принципе, выход вертикали власти в сторону установок рамок какой-то идеологии на самом деле не так болезненно, получается локальный договор. В который мы вот немножко поиграем?
К.К. Совершенно верно. И более того, может быть в первый раз за последние несколько десятилетий, если не столетий, в России в последние двадцать лет действительно пытаются договориться с обществом, ну худо-бедно. Ну представляете, Петр 1 с кем-то договаривается или там Сталин с кем-то договаривается. Ни с кем он не договаривался, и Хрущев ни с кем не договаривался. А сегодня, как мне кажется, вот какая ситуация. Люди, будем считать, что не все люди, но только чувствующие, понимают: когда-то что-то страшное произошло. И после этого кошмара они должны, видимо, договориться чтобы как-то выжить. Плохо они договорились, хорошо ли они договорились, но они как-то договариваются. Отсюда запрос на базу такого договора; он, быть может, не оформлен. Но есть такой, пусть на психологическом уровне. Скажем, понятно же, что никто этого ничего не придумал, с вертикалью власти, с «национальной идеей». Я же помню замечательную байку, мол, при Ельцине была такая история, когда собрали каких-то публицистов, идеологов и заперли в пансионате в Подмосковье, чтобы они за две недели срочно сочинили национальную идею. И они ничего кроме как «не ссать в подъездах» не придумали. И дело не в том, что они ничего не могут придумать, а потому что они не готовы к этому, а запрос есть - и это запрос не конкретно от Бориса Николаевича. Понятно, что его там теребило что-то другое. Тут речь идет, скорее, о какой-то болезненности этой процедуры. Например: когда атомы договариваются, они не берут в рассуждение мнение меньшинства атомов.
А.Л. На Западе это же все-таки мягче происходит, есть имущественные сословия, нет внезапно наступающей деклассированности. Есть недвижимость, «старые деньги». «Новые» появлялись, но старые сохранялись. Пусть не без проблем и эксцессов, но в среднем-то…
К.К. Помните? Ленинский «план построения социализма» состоял из трех частей. Индустриализация, коллективизация и культурная революция. В социальном смысле что это значило? Крестьяне превращаются в рабочих, рабочие – все эти десятитысячники, которые ездили в село строить колхозы – превращаются на некоторое время в крестьян, призыв пролетариев в писатели. То есть – люди, с социальной точки зрения, никто, они не рабочие, не крестьяне. Устаканить это все и создать новую иерархию должна была культурная революция, поэтому она третьей и стоит. Индустриализация, потом коллективизация, а потом культурная революция. Естественно, что в западных странах такого не было. Ведь даже нацизм не предполагал уничтожение классов. Поэтому Александр Моисеевич Пятигорский справедливо говорил, что гитлеровская Германия не являлось истинно тоталитарным государством, как СССР или Китай.
А.Л. Выходит, что история во времени либо держится на чем-то, либо нет, а тогда всякий раз при переменах осыпается заново.
К.К. Да, да. Я не знаю, что произошло в Китае и как там было после «культурной революции». Но, там, кажется (я не специалист) было задумано наоборот - культурная революция должна была полностью деклассировать население, Уничтожение интеллигенции, выселение ее на трудовое перевоспитание в деревню -- это же не потому, что они вот этих конкретных людей ненавидели, им просто нужно было полностью атомизировать все. Чем там все кончилось я не знаю, потому что не знаю Китая и как там дело обстоит сейчас. Но что произошло с Советским Союзом мы знаем. А в Европе — нет. Я живу в Чехии, в стране, которая пережила энное количество десятилетий социализма, причем социализм не пришел туда на штыках (хотя бы формально), это все-таки страна, где коммунисты пришли к власти в результате выборов. Но там все равно сохранились определенные горизонтальные социальные связи, довольно сильные. Там другие проблемы, но атомизации там не произошло. Поэтому в чешские сериалы, например, можно смотреть: актеры видят друг друга. Они понимают, например, что компанией сидят в пивной: там многие сериалы, не считая тех, которые подражают американским, - о том как люди в пивной сидят. И они знают, актеры, что они сидят в пивной, и что снимают не вот их по отдельности, этого или этого, а что дело снимают сцену, атмосферу и так далее. А русские - нет. Я практически не смотрю кино, но когда проели всю плешь разговорами о сериале под названием «Идиот», я решил посмотреть. Я понял, что там действительно один, два блестящих актера, что Евгений Миронов потрясающе играет. Но это набор бенефисов. Когда он говорит, это только он, а то что они слушают – это не имеет никакого значения, какие они жесты при этом делают, какая у них мимика. Просто всех остальных выключили на момент, а потом их включают – для собственных бенефисов. И это очень любопытно. На Западе твердят о коллективизме русских, о том, о сем. Да нет никакого коллективизма, сплошная искусственная икра и дхармический Уолтер Пэйтер!
---
Кирилл Кобрин - литератор, радиожурналист, редактор "Неприкосновенного запаса", колумнист "Полит.ру".
