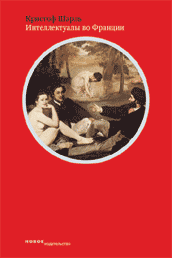
1 апреля в РГГУ состоится презентация книги директора Института новейшей и современной истории Национального центра научных исследований Франции (CNRS), профессора Университета Париж-I (Пантеон-Сорбонна) Кристофа Шарля "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ВО ФРАНЦИИ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ ВЕКА" (М: Новое издательство, 2005. Перевод Сергея Козлова).
"Полит.ру" публикует фрагменты из заключительной части книги, посвященной социальной истории французских интеллектуалов. В центре внимания автора находится знаменитое дело Дрейфуса, капитана французской армии обвиненного в измене родине и приговоренного к ссылке. Дело Дрейфуса раскололо французское общество на защитников и противников капитана, и, по мнению Шарля, раз и навсегда задало базовые схемы социального поведения французских интеллектуалов.
Французские интеллектуалы от дела Дрейфуса до наших дней: память и история
Одно из важнейших свойств группы, которую во Франции называют «интеллектуалами», состоит в том, что интеллектуалы во Франции всегда выступают носителями, а нередко и хранителями, определенной исторической памяти. В основном это память о тех исторических эпизодах, в которых интеллектуалы выходили на сцену как действующие лица. Эта функция сохранения памяти является системообразующей для французского понятия «интеллектуалы» как такового (следовало бы применять кавычки, чтобы отличать специфически французский смысл этого понятия от банализированного внеисторического смысла, который это слово имеет в международном социологическом обиходе). «Интеллектуалы» во французском смысле — понятие сугубо историческое по самой своей сути. Оно было порождено определенным моментом истории, и оно сохраняет свою относительную устойчивость и неизменность лишь через непрекращающуюся работу памяти и через специальные усилия по собственной реисторизации. Таким образом, место интеллектуалов во Франции расположено на той важнейшей линии, где проходит водораздел между памятью и историей, если прибегнуть к классической схеме Мориса Альбвакса . История и коллективная память у Альбвакса противопоставлены: история — это картина изменений; коллективная память же — это усилия группы по увековечению определенного опыта в его неизменности; тем самым, согласно Альбваксу, коллективная память устраняет историю, поскольку история способна трансформировать группу. Однако с французскими интеллектуалами дело обстоит иначе: их коллективная идентичность и относительная неизменность их представлений о своей роли обеспечиваются через постоянную реактивацию памяти об эпизодах, которые мыслились как разрыв с неизменным положением вещей, но самим своим участием в этих эпизодах интеллектуалы стремились утвердить трансисторическую преемственность, при которой исторический активизм интеллектуалов обосновывался бы служением интеллектуалов неким якобы внеисторическим высшим ценностям. (...)
Интеллектуалы опять под ударом
Однако с конца 1970-х годов начинает преобладать расхожее мнение о том, что интеллектуалы обречены на молчание, на упадок, на донкихотство или же на уход в узкие рамки своей профессии. Этот преобладающий пессимизм обусловлен тремя крупномасштабными факторами. Первая причина связана с изменившимися формами интеллектуальных дискуссий. Согласно логике пессимистов, господство новых СМИ ведет к упадку печатного слова и традиционной прессы, а значит, к ликвидации условий, в которых были возможны сложные публичные дискуссии. Даже если бы интеллектуалы и имели что сказать обществу, они лишаются каналов для широкого распространения своих мыслей, поскольку в подавляющем большинстве они не имеют доступа в те СМИ, с помощью которых только и можно теперь затронуть «общественное мнение». Те же немногие интеллектуалы, которым еще открыт доступ в такие СМИ, могут высказывать через них лишь предельно общие идеи. Следовательно, все подталкивает этих интеллектуалов к высказываниям на темы, вызывающие всеобщий консенсус, и к отказу от политических дебатов. Все это ведет к неуклонному сокращению удельного веса ценностных конфликтов, а именно такие конфликты и лежали в основе общественной роли интеллектуалов на протяжении ста лет их существования.
Второй сдвиг, о котором говорят пессимисты, связан с устареванием самого понятия «интеллектуалы». О каких, собственно, «интеллектуалах» может идти речь в эпоху массовых университетов? С одной стороны, никогда еще во Франции не было такого количества «интеллектуалов» в социологическом смысле, поскольку никогда еще не было такого количества людей с университетским дипломом. С другой же стороны, никогда еще статус «интеллектуала» не был привилегией столь крохотной кучки людей, поскольку лишь очень и очень немногие имеют возможность для мобилизации всех каналов общественного мнения . К этой парадоксальной элитизации добавляется проблема легитимности. К кому и от имени кого будут теперь обращаться интеллектуалы? Разве элитизм интеллектуалов XIX века, подхваченный затем правой интеллигенцией и отвергнутый левыми интеллектуалами в период между двумя войнами, — разве такой элитизм не противоречит, по сути дела, защите демократических ценностей?
Наконец, третий тупик связан с кризисом самих общественных споров как таковых. Существует ли еще хоть какой-то реальный спор? Подвергнув отрицанию все политические цели, которым они в прошлом, раньше или позже, присягали на верность, целый ряд интеллектуалов крайне левого направления предается теперь аполитичному мазохизму в духе идеи «от добра добра не ищут». По их мнению, сама по себе ангажированность всегда ведет к извращению идеалов: так Пеги обличал в свое время перерождение мистики в политику. Но если интеллектуал ограничивается безобидными и «консенсусными» целями, не отрекается ли он тем самым от принципов диссидентства, без которых было изначально немыслимо само понятие «интеллектуал»? Для агитации в пользу общепризнаваемых целей лучше подходят звезды шоу-бизнеса, чем патентованные интеллектуалы. Возможно ли сегодня выйти за рамки минимального консенсуса по самым общим республиканским принципам и сформулировать некие противостоящие друг другу системы ценностей?
Бесспорно, именно в этом последнем вопросе 90-е годы XX века наиболее решительным образом опровергли предсказания пессимистов 1980-х годов (аргументы этих «пророков молчания» были вкратце перечислены выше). Конфликт ценностей, начавшийся в 1789 году, отнюдь не завершился в году 1989-м. Наоборот, он стал еще более актуальным в обстановке множественных проявлений нетерпимости и интеллектуальной регрессии, о которых шла речь выше. Против такого суждения, основанного на аналогии, выдвигается, однако, то возражение, что мы в принципе не можем вернуться назад после того, как система СМИ перешагнула в своем развитии через качественный порог. Совершенно очевидно, что мы никогда больше не сможем воздействовать на широкую публику, если все, что имеется в нашем распоряжении — это пятьдесят полемически настроенных газет в Париже и еще по газете на каждую субпрефектуру, как то было в 1890-х годах. Теперь невозможно стало и думать о том, чтобы несколько активно настроенных людей, собравшись, могли основать периодическое издание, посвященное культуре и имеющее широкую аудиторию.
Возрождение «интеллектуалов»
Тем не менее и в этом случае аналогия между двумя «концами века» может несколько релятивизировать подобный априорный пессимизм. Точно так же, как растущий контроль экономического капитала над прессой XIX века вызвал к жизни оппозиционную систему, состоящую из маленьких журналов и альтернативных площадок для дискуссий, — точно так же аналогичный захват крупных СМИ рыночными силами, начиная с 1980-х годов, вызвал к жизни множество альтернативных интеллектуальных сетей (местные радиостанции, газеты тех или иных ассоциаций, околоуниверситетские журналы, электронные сообщества и т.д.). В силу своекорыстного замалчивания деятельности этих сетей со стороны крупных СМИ, мы, вероятно, недооцениваем роль подобных площадок в формировании «другого» общественного мнения. Но политические и идеологические обстоятельства последних лет, сила «ассоциативного» движения и новые технологии, создающие новое публичное пространство, могут со временем победить эту невидимую цензуру .Во-вторых же (и здесь мы возвращаемся к третьему фактору нынешнего «кризиса интеллектуалов», указанному выше), центром общественных дискуссий во Франции вновь, как и сто лет назад, стал вопрос о национальной идентичности в связи с политическим развитием крайне правых сил, приливом ксенофобии, а также с новыми проблемами религиозного плюрализма перед лицом светского общества и слабнущего традиционного национального государства . Дрейфусары и антидрейфусары легко обнаружили бы своих духовных наследников в представителях двух наиболее заметных сегодняшних лагерей. С одной стороны — целое политическое течение играет на тревоге перед будущим, точно так же, как это делали националисты и антисемиты в конце XIX века. И с другой стороны — «антирасистский» лагерь стремится заново мобилизовать общественное мнение, разочарованное никчемностью основных политических партий, и ради этой мобилизации напоминает об опасных прецедентах межвоенного периода, приведших в конечном счете к институционализированной расистской ксенофобии режима Виши.
Таким образом, перед обществом вновь стоят те ключевые вопросы, на которые пытались ответить интеллектуалы и до, и после дела Дрейфуса: должна ли Франция оставаться открытой нацией или же стать нацией закрытой? Что остается сегодня от тех ценностей, на которых была основана французская нация? Станет ли ветхая традиция средневековья и «старого режима» единственной общенациональной основой для сопротивления «мондиализации», т.е. культурной американизации — как пытаются нас в том уверить новые правые, все менее и менее маскирующие свой проект «консервативной революции»? Или же, наоборот, можно придать новую ценность учредительному акту Французской революции и его потенциальному универсализму — несмотря на всю слабость и робость недавних дискуссий, порожденных празднованием 200-летия Французской революции на фоне крушения просоветских режимов? Сходство с дискуссией, находившейся в центре дела Дрейфуса, усиливается тем, что в Германии развернулась аналогичная дискуссия, связанная с вопросом об оценке нацистского прошлого и об основах немецкой национальной идентичности до и после объединения Германии . Если эта дискуссия во Франции будет шириться и дальше, как это происходит на протяжении вот уже десяти лет, — тогда те, кто в 1890-х годах завоевал благодаря аналогичной дискуссии свою социальную роль, т.е. именно «интеллектуалы», смогут заново обрести эту общую функцию, некогда потерянную с приходом экспертов, партийных интеллектуалов или специалистов по консенсусу, а также с воцарением неолиберально-экономической доксы и свойственного ей разрушительного антиинтеллектуализма.
Есть и еще один благоприятствующий интеллектуалам фактор. Он связан, как ни странно, с самой неопределенностью нынешнего международного положения, прежде всего в Европе. Как во Франции, так и в других европейских странах мы наблюдаем рост озабоченности национальными интересами и возрождение националистических страстей. Питательную среду для всех этих явлений, несомненно, в первую очередь создали последствия социального кризиса, а также разрушительные эффекты неолиберализма и международной конкуренции.
Но стимул к возрождению национализма порождается также и тем обстоятельством, что европейский дискурс оказался монополизирован силами, которые сводят все общеевропейские ценности к одним лишь выгодам от общего европейского рынка (а между тем, большинство европейцев всё никак не может вкусить плоды от этих якобы автоматически приходящих преимуществ). Выступая в качестве «функционеров всеобщности» (П. Бурдьё), ответственных за воспроизводство традиции европейских культур и за их развитие, интеллектуалы, ощущающие на своих плечах политическую ответственность перед лицом как неонационализма, так и безудержного неолиберализма, должны придумать и предложить социуму объединяющий всех культурный проект, способный заполнить это новообразовавшееся публичное пространство, которое, парадоксальным образом, остается совершенно пустым, несмотря на свою переполненность громкими фразами.
Если развить идею Европы вплоть до ее глубинного смысла, о котором мечтали некоторые интеллектуалы XIX века, тогда целью окажется строительство такой Европы, универсализм которой был бы сопоставим с универсалистской концепцией, положенной некогда в основу республиканской Франции. Но строительство такой Европы предполагает утверждение единой, общей культуры, в которой на равных правах участвовали бы разные страны и регионы, вместе образующие Европу. Только такая культура сможет оттеснить на задний план вековые антагонизмы и стереотипы противостояния различных наций: многочисленные политические кризисы последнего времени показывают всю живучесть подобных стереотипов и, в частности, силу их воздействия на умы так называемой элиты, которой доверено строительство общеевропейской экономики. Мы будем иметь Европу без граждан до тех пор, пока мы будем иметь Европу без общей для всех многонациональной культуры, то есть без образовательной системы, содержащей необходимый минимум общих знаменателей и общезначимых смыслов.
Таким образом мы смогли бы вновь обрести космополитический идеал Просвещения, но на сей раз он был бы связан с новым политическим проектом, поскольку все существующие ныне федеративные или конфедеративные государства либо ограничены территорией скромного размера, либо основаны на господстве одной отдельно взятой культуры над культурами меньшинств: как показывают американские дискуссии, именно такое господство вызывает все больше и больше протестов.
Две идеологии, оказавшие в XX веке возмущающее воздействие на французскую интеллектуальную традицию, — коммунизм и тьер-мондизм — практически исчезли с горизонта, утратив свою роль полюсов притяжения. Если рассматривать историю французских интеллектуалов в перспективе долгосрочной конъюнктуры, как это было предложено выше, тогда коммунизм и тьер-мондизм предстают как две идеологии, фактически чужеродные интеллектуалам: они наложились извне на французские интеллектуальные споры и привели не столько объединению, сколько к разделению предшествующих интеллектуальных традиций. На вид они давали интеллектуалам новую функцию, новую роль, новый идеал. Их исчезновение возвращает интеллектуалов к прежнему типу дискуссий: такие дискуссии в меньшей степени уходят из-под власти самих интеллектуалов.
Однако очерченная выше программа действий предполагает большую совместную работу интеллектуалов из разных стран, которую не так легко будет осуществить. Список задач на ближайшие годы весьма длинен: критическое осмысление всей предшествующей активности интеллектуалов и всех слабых мест такой активности; переосмысление истории Европы последних двух веков и истории всех составных частей Европы этого периода; продумывание способов реинтеграции, подходящих для «второй Европы», некогда отделенной, но законно желающей вновь обрести то место, которое было ей присуще в пространстве международных культурных обменов в межвоенный период; выработка программы действий, способных повлиять на политическую власть, устремления которой чрезвычайно ограничены в культурном плане, пронизаны утилитаризмом (влиянием культурной индустрии) и вместе с тем весьма путаны, поскольку продиктованы одновременно разными подходами к будущему Европы, не согласующимися между собой: голлистским, германским, англосаксонским подходом и т.д.
Если мы выйдем за пределы французских рамок и рассмотрим интеллектуалов Европы как единое целое, станет ясно, что подобные линии раскола, унаследованные от политики и от специфической культуры, свойственной их изначальному национальному пространству, проходят и через сознание европейских интеллектуалов. Отсюда — и вся трудность, и вся важность диалога между интеллектуалами разных стран.
