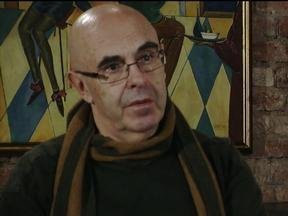
21 марта в театре «Эрмитаж» состоится премьера спектакля «Аксенов, Довлатов, Двое». Мы побеседовали о театре и литературе с известным режиссером и писателем, художественным руководителем театра «Эрмитаж» Михаилом Левитиным. Интервью взял Леонид Костюков.
Леонид Костюков: Значит, тема наша такая: «Литература и театр». И вот первый вопрос, или, может быть, такое высказывание. Мне кажется, что есть такие рассказы, которые написаны так, что видно, как это ставить. Диалог - дать какому-то Васе, и он просто транспонирует очень быстренько, раз! - и поставили это. А бывают такие тексты, которые с наивной точки зрения абсолютно непонятно как, очень много описаний, очень мало диалогов и так далее. И вот мне кажется так, что вторые, в каком-то смысле, более счастливые, более удачные, когда непонятно как, то в этом что-то есть. В этом есть какое-то будущее с точки зрения того, как поставить в театре. Что вы скажете на эту тему?
Михаил Левитин: Вы знаете, тут я начинал просто с прозы, и я учился театру у прозы. Это было еще в детстве. Я всегда говорил, что меня композиция учит. Так, как поставлены слова во фразе, мизансцены. Я был очень связан с этим. И Бабель, и Олеша, и одесская школа, я одессит, и эта одесская школа, она вообще на виду, это люди публичные, они пишут вещи глубоко личные, но они публичные люди. И я учился, и для меня понятия несценичной литературы не существовало никогда. Я просто понимал, что возможности театра эта литература немножечко расширит. Но мне было важно, какой артист стоит за этой литературой.
А некоторые писатели - они артисты, Олеша - безусловно. Да все понемножечку. В Одессе, естественно, все. А вот те, кто вас интересует. Тоже среди них можно выделить большое количество людей, открытых, открытого такого писания, обращенных к массе, слышащих самих себя, очень слышащих самих себя. Вот, в частности, Аксенов. Это человек, который себя абсолютно слышал, мог свинговать на большой аудитории, совершенно спокойно. Ему для этого, конечно, нужно было и уединяться, но он любил уединяться на публике. Вот я люблю вот таких писателей. Маркес - человек, уединяющийся на публике. Естественно, мои любимые обэриуты, Хармс.
Но есть писатели, которые тебе помогут - ну, просто помогут. Поступки, мысли, все действия, все как бы изложено в строке, иллюстрировать не надо. Надо просто очень четко услышать. Вот есть такие писатели. Так что мы начали с несценичной литературы в «Эрмитаже» очень сильно, и потеряли вначале, много лет назад, часть зрителей, которые не понимали, как это, что за театр такой странный, где кульминацией был мой любимый «Нищий, или Смерть Занда», вот эти вот «Черновики» Олеши, - что за кульминация такая? Что, вообще, за театр такой?! А потом выяснилось, что когда мы перешли к пьесам, нормальным пьесам, классическим великим пьесам, что техника актерская большая очень, им не страшна фраза, реплика, это уже не проблема. Они абзацы играли, периоды какие-то невероятные.
Леонид Костюков: Понятно, то есть, если я правильно понял, вот этот взгляд на то, что писатель в какой-то степени артист, в какой-то степени артист. Это мне очень близко, потому что я понимаю, что писатель должен представлять себя героями и на пространстве одной вещи он должен представить себя этим, представить себя тем, начать говорить его голосом, начать ходить его походкой.
Михаил Левитин: Вы знаете, я думаю, что просто он не замкнут в литературе. У меня свое такое странное ощущение - одних литераторов отличать от других. Некоторые делают литературу, я таких людей не люблю.
Леонид Костюков: Кто, если можно.
Михаил Левитин: Я не могу их назвать. Среди них есть очень популярные и очень уважаемые мои друзья. Я не могу их назвать. Но ощущение, что делают литературу. То есть это работа бесконечная со словом, разговор об этом русском слове, забыли о том, что слово давным-давно представляет некую жвачку непостижимую, которую ты можешь как угодно ритмизовать, менять, но от этого она не станет живой, не станет живой, хотя ты говоришь о живых, прекрасных вещах. И твоя душа летит, вместе с этим словом она куда-то летит. А есть писатели, которые как-то относятся к этому иначе. Они пользуются литературой, пользуются словом для того, чтобы что-то, какой-то звук туда вынести какой-то. Потом покорявей бы, покорявей, я вам скажу откровенно. Мне бы сейчас в литературе все б покорявей. Я не могу уже это читать, невозможно, глаза скользят, как будто съезжаешь, не знаю на чем, с горы. Невозможно, не за что зацепиться, а понимать, что ты читаешь Нечто, требующего особого внимания, у меня нет сил. Для этого надо постучать пальцем и сказать: «Обрати внимание, я написал то-то и то-то». Это крайне глубоко, это крайне мудро. Для этого нужно тебя просто зацепить этим словом, этим чем-то, ритмом, я не знаю чем. Посмотрите, довлатовская проза. Вот она этим и берет.
То, что я говорю, не предполагает, что дикобраз пишет, но так прямо, так вот, как оно есть.
Леонид Костюков: С точки зрения вот этого, когда я просил назвать каких-то писателей, я, может быть, не имел в виду какой-то близкий ваш круг. Может быть, назвать каких-то классиков, которые вот в эту сторону идут. Чтобы никому не было обидно, может быть, уже давно ушедших от нас, может быть, не наших, французских там каких-нибудь.
Михаил Левитин: Вы знаете, это интересная история. Если брать Олешу, которого я всего переставил, и заграницей, и у нас переставил всего Олешу, я не знаю, чего там осталось. И вот, когда делалась пьеса «Нищий, или Смерть Занда», то «Черновики» Олеши создавались 30 лет. И в течение 30 лет он доходил от диалога романтического, чистого, немножко пафосного, немножко? - очень пафосного, одесского, очень красивого, знаете: «Я могу галлюцинировать, но шкаф галлюцинировать не может». Очень эффектно для театра, это замечательный театр. Но со временем, идет, идет, идет какое-то время, и реплики его менялись, характер реплик. Они становились, как говорил Маяковский, простыми, как мычание. Оставался какой-то ритм, мощный, олешевский, но выражен он был какими-то странными словами. Это меня заинтересовало больше, чем стихи, написанные в юности. Вот я не знаю, что это такое. Это поэзия мычания, это поэзия души, это не то, вероятно, что сейчас делается, хотя я не слишком сведущ в том, что делается в современной литературе, в этом направлении. Потом - это нельзя делать, это нельзя сделать приемом. Я не о приеме говорю, а о силе воздействия фразы, ритма, себя самого. Ты вдруг начинаешь понимать, что все очень предметно и как-то мощно, и поменьше сентенций, и поменьше позирования, и поменьше, в этом смысле, какой-то красоты мнимой. Вот это я помню в детстве по Олеше, и как вот я шел, шел, шел, в 44 года завершил этот путь, связанный с Юрием Карловичем. А что в прошлом? Надо сказать, восприятие очень странное в этом плане. Очень странное восприятие. Я не говорю об обэриутах, вы понимаете, почему они писали мало. Они писали мало - как в форточку бросить, как говорил Хармс. Он не врал, совершенно не врал, совершенно не лгал, это совершенно не поза. Или мой любимый Введенский, самый любимый. Безумец, такой замечательный, такая богема. Я написал о нем книгу. Роман такой с его названием «Убийцы, вы дураки», она была напечатана в «Октябре» когда-то. Вот эти люди мне очень нравились. Вообще,
Если вернуться туда, к классике нашей, совсем туда броситься, то вы сейчас мне скажете, что я сам себе противоречу. Потому что я черпаю из них скорее чувственное. В этом плане бесконечно интересны мне «Темные аллеи», и гораздо меньше интересен Набоков. Гораздо меньше. Вы себе не представляете, до какой степени. Я могу чрезвычайно преклониться как перед личностью, интересной личностью, я и с семьей его дружу, с сегодняшней семьей, с его племянником, очень близко дружу. Но он не был мне никогда интересен, я не могу, я тоже скольжу там.
Леонид Костюков: А «Дар»?
Михаил Левитин: «Дар», вы понимаете, «Дар» как познание мира, как познание Набокова – интересно, а как то, что я называю реальностью литературы, мне не интересно, я не могу это выдержать. Я не могу: такой упор на слове, такой примат слова, главное - слово, главное - фраза, я не могу в это поверить, я сам знаю, что я сейчас с вами говорю не так, как мне хочется, но это невозможно, понимаете. Может быть, этому способствуют мои театральные занятия, когда слово меняется и становится движением каким-то, когда я могу взять роман Маркеса или повесть «Хроника широко объявленной смерти» - и долго думать, что мне делать с этой «Хроникой широко объявленной смерти», мне что ее - читать хором, этот прекрасный текст?.. И вдруг я понимаю, что я должен оставить одну фразу и 45 минут полной тишины, которые я буду выстраивать без помощи Маркеса, понимаете, или беру «Эрендиру и ее бабку», то, что у нас шло в театре. И беру фабулу и выстраиваю свое одесское детство, и все мои монологи - в фабуле Маркеса оказывается это абсолютно, потом, когда в Латинскую Америку поехали и играли эту «Эрендиру», было ясно совершенно, что фабула выдерживает меня. Но столкновение чьей-то жизни и фабулы Маркеса – очень само по себе интересно, конфликтно. Вообще, конфликтнее бы, неудобней бы, понимаете. Вот это меня сейчас терзает очень.
Леонид Костюков: Мне кажется, я понимаю вас. Мне кажется, что Набоков накидывает вот эту свою сеть слов на то, что само по себе не очень любопытно.
Михаил Левитин: Может быть, и любопытно, может быть, то, что я вам говорю, - это отсутствие моего воспитания какого-то определенного, может быть, незнание языка, которым он говорит, это не исключено. Если это так, тогда, значит, существует конфликт между мной и этой литературой, имеющей какой-то другой, более глубокий характер.
Леонид Костюков: По крайней мере, что абсолютно точно, что литераторы более молодые, так скажем, последующих поколений, которые пошли за Набоковым, они пошли неверной дорогой, это уж наверное.
Михаил Левитин: И я так думаю.
Леонид Костюков: Если даже для Набокова это было возможно, это некая акция одноразовая. Это уж точно. Но раз возникло имя Набокова, возникает имя Газданова. Как вы относитесь к Газданову?
Михаил Левитин: Вы знаете, мне предложили сейчас ставить на радио, а я такой большой апологет радиотеатра, который поставил только «Епифанские шлюзы» Платонова, и они заняли главный приз на европейском фестивале, что само по себе очень приятно было, потому что я морочил это радио. Я три месяца заставил их работать, а если они работают больше недели, они работают без зарплаты. Три месяца они искали разницу звука реки, звука ручья, звука моря. И они не могли понять. Они мне говорили: «Все вода, вода». И я там добавлял горный хрусталь, то-то добавлял, это для меня такое безумие. Они мне предложили мне вот этот вот «Призрак Александра Вольфа». И я вчитался в Газданова, насколько я могу. Очень хороший, несовершенный писатель. И вот
Повторяю, что это абсолютно, сугубо личное мнение, никаких истин я не высказываю.
Леонид Костюков: Иванов в свое время писал, у него была маленькая статья о Набокове и Газданове, потому что
Михаил Левитин: Кома Иванов?
Леонид Костюков: Георгий Иванов. Нет, Кома Иванов, наверное, тоже что-то писал, но Георгий Иванов писал по горячим следам, когда они были молоды, они были моложе, чем он. И он писал, что - вы все так удивляетесь, восхищаетесь Набоковым-Сириным, говоря, что этого не было в нашей литературе, но этого полно было в итальянской, французской, немецкой. А вот Газданов – это подлинный писатель, который….
Михаил Левитин: Кто знает, чьи интересы представлял в данном случае Георгий Иванов, настолько несовершенный поэт и писатель, с моей точки зрения. И я не знаю. Я думаю, что это очень мощные обе фигуры, только Газданов меньше в себя верит, чем Набоков. Меньше в себя верил.
Леонид Костюков: А мне кажется, что Газданов больше в себя верил, потому что вот он шел одним и тем же путем, до старости, а Набоков в какой-то момент предпринял усилия, которые сейчас были бы названы усилиями пиара, с точки зрения знаменитости, с точки зрения скандальности.
Михаил Левитин: Можно откровенно сказать - впервые в жизни столько говорю о Набокове, потому что я совершенно не специалист по творчеству Набокова.
Леонид Костюков: Если бы вы сказали более восторженно о Георгии Иванове, мы бы с вами перешли на Георгия Иванова. Понятно - нет так нет. Вот еще такая тема. Как вы относитесь к такому взгляду. На мой взгляд, текст, который написан на бумаге, будь то стихи, проза, – это буковки, это знаки. И то, что за этими знаками встают образы, люди, мы услышали голос, мы почувствовали ветер, мы почувствовали что-то еще, это вот раз на тысячу и раз на миллион, и это некоторая магия. А в театре, если смотреть на театр с наивной точки зрения, там действительно люди ходят по сцене, то есть это не оптический обман, а это действительно так и есть. Мы действительно слышим звук. Нам, ну вот если какой-то там агрессивный, допустим, герой, действительно страшно, если это первый ряд, допустим. Мало ли что он сделает? вдруг он кинется на нас. Где вот эта магия, где, условно говоря, то, чего по здравому смыслу быть не должно, но вот раз на сто оно есть, где вот эта магия театра?
Михаил Левитин: Ну, магия театра заключается, прежде всего, мне кажется, в том, что - если сопоставлять его с литературой, то пишется поверх литературы свой текст.
Актерская параллельная действительность. Иногда бывают совпадения, а иногда бывают очень странные, наоборот, соприкосновения - такие взрывчатые очень, они-то и составляют самый большой интерес, если говорить о роли словесного ряда и так далее и так далее. На самом деле, театр – это создание впечатлений, целого ряда впечатлений. Ну, хоть три впечатления создашь - или одно, уже хорошо. Они же вот такие потрясающие, как Таиров раньше говорил: «Если у меня в спектакле происходит какое-то чудо (ну, например ему кажется, или так признано, мизансцена замечательная, или актерская игра замечательная), я закрываю занавес, зритель должен аплодировать, - я открываю занавес и продолжаю действие». Мы этого, к сожалению, не делаем, у нас у всех занавесов нет. Но, в принципе, я стараюсь создать такие мощные впечатления, чтоб на меня они воздействовали: я тоже человек, я тоже в зале. Я не считаю себя каким-то таким избранным Творцом, который в потемках бродит, я тоже в зале сижу. Вот это создание впечатлений. Создает ли литература такие впечатления? Ну, большей протяженности. Вся книга – это одно большое впечатление какое-то, скорее, это восприятие. Театр идет туда, а литература идет сюда, вот сюда, насколько я понимаю, внутрь, вглубь. Я это говорю по себе, потому что если я не работаю, не пишу, мне очень трудно приходить в театр, я себя перестаю понимать. Я себя не знаю. Там я все-таки создаю сразу, как я говорю, впечатление.
Ну, вот как проходит женщина перед тобой, хочет тебе понравиться, предположим, она знает, как это сделать, - она тебе нравится. Певец знает точно, как рассчитать, чтобы нота, его интересующая, прозвучала определенным образом, он рассчитывает силу голоса, свои возможности, он рассчитывает. Это театр, поэтому сказать - что-то внешнее, ну, конечно, это внешнее.
Леонид Костюков: Это идущее извне, так скажем.
Михаил Левитин: Это идущее вовне, понимаете, это идущее вовне.
Леонид Костюков: Сама сцена вовне, а в зале - внутрь уже, да? Понятно.
Михаил Левитин: Это другое дело, там уже сидят писатели, писатели пусть об этом пишут.
Леонид Костюков: Я понял. Я к тому, что вы сказали, что книга воздействует более, ну что ли, расплывчато, более размазанно, более протяженно…
Михаил Левитин: Концентрированно.
Леонид Костюков: Концентрированно и протяженно. Я помню, в детстве какая-то была книжка, детская, я сейчас даже не вспомню ни автора, ни названия. Я помню, что там герой, к которому я относился очень хорошо, умирал в какой-то момент, какой-то петушок, прошу прощения. И я помню, что я раз за разом открывал эту книгу, надеясь, что в этот раз он выживет. Вот я доходил до этого места и думал: «Может быть, в этот раз он выживет?»
Михаил Левитин: Ну, в театре он умрет.
Леонид Костюков: Это был такой мгновенный удар, очень сильный. В этом плане, очень хотелось бы вас спросить. У меня есть такое мнение, что «Мастер и Маргарита» - это вещь, устроенная по законам театра, а не художественной прозы. То есть она тоже такая немножко неосмысленная, и желание воздействовать непосредственно таким ударом.
Михаил Левитин: Вы знаете, если говорить все о том же «Мастере и Маргарите». Ну, во-первых, это писал театрально талантливейший человек, одаренный человек и, как и Достоевский (которого, по-моему, он не любил), склонный писать, скорее для театра, чем для читателя. Как ни странно. Это срабатывает. Очень сильно срабатывает театральное мышление. Человек публичный, веселый, артистичный, это Михаил Афанасьевич, имеется в виду, но история с «Мастером и Маргаритой» для меня такова, что это сказка. И для меня вообще все великие, так называемые, произведения, кажущиеся сложными, но которые легко воспринимает масса, в силу разных обстоятельств (и в силу того, что много говорят и т.д.), - это уже сказки. Так же как «Сто лет одиночества». Это сказка. Это гигантская роскошная сказка. Ее должны читать дети.
Я видел, как воспринимает «Мастера и Маргариту» моя маленькая восьмилетняя дочь, как она год назад смотрела неудачный, с моей точки зрения фильм, но как она безумно его смотрела, этот фильм. И как она пугалась и понимала. Ну, конечно, можно было бы рассказать о жизни Москвы, о 20-х годах, об НКВД, это можно рассказать, но, честно говоря, это ни прибавит, ни убавит к «Мастеру и Маргарите» ничего.
Вот так вот мне кажется. Написанная драматургом. Да, да, драматургом. Но ставят «Мастер и Маргариту» все безобразно.
Леонид Костюков: Понятно, потому что это уже театр. Ее поставить очень сложно, потому что нет этой дистанции, на которую надо перетаскивать. То есть весь театр уже в тексте.
Михаил Левитин: Вы знаете, я ставил. Я ставил - и угодил с клинической смертью в Боткинскую больницу на три с половиной месяца. Это почему-то сразу связали. И были интервью на телевидении: это потому что вы «Мастера и Маргариту» ставили? Я не знаю, потому что я «Мастера» ставил - не ставил. Но я тогда ее обреаливал, очень сильно обреаливал, очень сильно приводил ее к тому, чтобы действие проходило в саду, где мы находимся, хотя там сад другой. Там сад, в каком саду находится, в «Аквариуме». Там «Аквариум», у нас «Эрмитаж». Даже, когда зритель уходил из театра, в колоннах били Варенуху. Били смертным боем Варенуху. И там было все с самого начала, сеанс черной магии, без всяких там. Я открыл там только одну вещь, что всю историю этого Иешуа, всю историю рассказывает Сатана, поэтому у меня не было никакого Иешуа. Сатана говорил все. Он просто говорит, но так написано у Булгакова. А они отделили эту историю. Эту историю рассказывает Сатана, но этого почти нигде я не видел.
Леонид Костюков: У кого?
Михаил Левитин: У нас был такой великий артист Гвоздицкий, умерший, Виктор Гвоздицкий. Он играл этого Воланда, и он очень боялся: «Что ж вы заставляете меня это так рассказывать, да еще так безбожно. Как же Сатана будет…». А кому ж еще рассказывать о Боге? Сатане. Там сильные вещи, сильные удары, он знает, как строить, как заканчивать, как держать сюжет, знает, все знает.
Леонид Костюков: Сатана, насколько я понимаю, у Михаила Афанасьевича – это не сила зла. Эта сила – это, скорее всего, та самая мертвая вода, которая наводит какой-то порядок и закон, а потом уже должна быть живая вода, которая….
Михаил Левитин: Ну, так он пишет. Но, по сравнению с нами, он парень хороший. Ну, он хотя бы крупный такой, крупный человек, по сравнению с нами.
Леонид Костюков: Ну, он не нарушает каких-то законов как бы, он мстит грешникам.
Михаил Левитин: Нет, он просто знает, что из себя представляет этот человек, что из себя представляет тот человек. Он знает цену людям, а так как цену люди, в общем, не хотят знать, не то, что не знают, они, может быть, не могут. А он знает цену людям. Ну что ж, уже хорошо.
Леонид Костюков: Да, да. Он с этого начинает. Сволочь, приспособленец, подхалим…
Михаил Левитин: Я просто говорю о том, что он знает. Достоин, Булгаков очень достоин. Я был, в силу обстоятельств, в ГИТИСе, меня послал Завадский к Елене Сергеевне Булгаковой. Это было очень-очень давно. Она не была известна. Это было в 1964 году. Мы ставили «Бег». И Завадский, учитель мой, говорит: «Знаешь что, может быть, там есть какие-то редакции «Бега». Ты сходи туда к Елене Сергеевне (она жила у Никитских ворот), и ты попроси у нее, ты умеешь с женщинами, возьми цветы». Я мальчишкой был совершенным, юным на этом режиссерском факультете. И я пошел к Елене Сергеевне. И я помню всю атмосферу дома, и помню, что она перенесла вот этот шкафик, где маска была посмертная Михаила Афанасьевича. Там же квартира уже была не его, он не жил в этой квартире. И помню удивительную вещь, когда у них стоял славянский шкаф, и в этом славянском шкафу внизу были какие-то полки. И мы с ней несколько времени довольно приятельствовали, и даже на вечера в ЦДЛ ходили вместе, сидели на одном стуле, я в какой-то передаче сказал, что мне мое бедро грело бедро Маргариты. И она мне тогда сказала, что я вам могу дать почитать, хочу дать почитать, не могу, собиралась дать почитать, как-то сказала, папки. Я теперь знаю, что это был «Мастер». Но я не проявил никакого интереса, понимаете? Это самое забавное. Ну, юность, она же интереса большого не проявляет ни к чему, кроме себя. Я тогда был занят собой настолько, что я даже отказался быть одним из первых читателей - ну, не первым, конечно, одним из читателей этой папочки «Мастер и Маргариты». Я просто помню.
Леонид Костюков: Ну а как «Бег»? Нашли что-то новое?
Михаил Левитин: Мы ставили «Бег». Играли. Никакой редакции новой она мне не дала. Ничего там такого не обнаружилось, а пьеса хорошая, крепкая, сильная пьеса, очень хорошая. Мощная, да. Ну, вы знаете, он такой. Кроме «Кабалы Святош» я бы ничего не хотел поставить. «Мольера» хотел очень. Особенно книга изумительная. Но эта книга, знаете, когда была написана, когда он ее сдал в ЖЗЛ, там было написано, рецензия: развязный молодой человек. После чего 40 лет пролежала книжка. Развязный молодой человек. Ничего не понимают люди. Ничего не понимают, оставим нас всех в покое. Будем жить, как живем. Я не ответил на ваш вопрос, простите. Но что-то меня отвлекло.
Леонид Костюков: Нет, нет, нет, это абсолютно не страшно. Как вы скажете, вот какие, на ваш взгляд, максимально удачные, что ли, опыты вы видели, когда что-то было литературой, ну скажем, известной всем, великой, - и вдруг в театре обрело какую-то вторую жизнь, какой-то новый взгляд? Вот что-нибудь, может быть, с юности, может быть, что-то еще, что прямо ударило по Вам. Были такие моменты?
Михаил Левитин: Уверен, что были. Я не могу припомнить. Я знаю: литературным театром был театр на Таганке, в котором я делал диплом, был мальчиком 22 года, у меня был дипломный спектакль там. Это был театр литературный.
Леонид Костюков: Я помню, они и Трифонова ставили.
Михаил Левитин: Они все ставили. Трифонова, Абрамова, Можаева, все ставили. Там, по-моему, были какие-то успехи в этой сфере. Мне кажется, были.
Леонид Костюков: Мне кажется, были. Ну «Обмен», по крайней мере, - очень хорошо.
Михаил Левитин: «Обмен». Ну, там был мой любимый друг. Это Давид Боровский. Великий художник театральный. И вот его вмешательство, его туда вход, в литературу, в театр, - это вообще влияние огромное. Вот этот театр, помню, что-то подобное делал. Мы делали. Не знаю, кого уж вообще это интересовало. Не припомню. Помню, скорее, полубеспомощные инсценировки, не припомню такой силы литературно-театрального впечатления.
Леонид Костюков: Сила, может быть, даже не именно сила. А именно удивительность, вот что-то, что открыли абсолютно не с той стороны, с которой вы видели этот текст, или, может быть, вам казалось, что вы видели, может быть не очень внимательно.
Михаил Левитин: Нет, будем откровенны, не припомню.
Леонид Костюков: Ну, а если взять так. Какая, на ваш взгляд, есть пьеса, написанная именно как пьеса… Понятно, что пьеса - в каком-то смысле это литература, но можно, все-таки, сказать, что это не жанр литературы. Это как бы уже ближе к театру. Какая пьеса, на ваш взгляд, максимально далека от того архипелага, который мы можем назвать литературой в полном смысле слова.
Михаил Левитин: Лучшая пьеса на земле – «Живой труп». Она такая. Надо сказать, что я ее ставил. Лев Николаевич не знал даже, какой силы он драматург. Он просто не знал. Вот он мычал абсолютно. Эта пьеса, она такая, знаете, явление девятое, предположим, Анна Ивановна: «Да, да», - одна она. «Да, да». «Ну, может, да», - сама себе. Явление десятое. Это делает сверхъестественный театральный человек и драматург, сверхъестественно просто обладающий талантом драматурга. Мне почему-то кажется, что это «Живой труп».
Леонид Костюков: А вот есть такой эффект. Это я даже не спрашиваю, известно, что он есть. Есть так называемая энергетика первой вещи. Энергетика дебюта. Когда человек пишет абсолютно гениальную первую вещь, не связанную никакими страхами, относящимися к тому делу, которым он старается заниматься и так далее. И чаще всего, если первая вещь такая мощная, вторая уже, когда он уже на чем-то обжегся и так далее, вот он не может. Может быть, то, что вы сказали, - это из серии вот этих удивительных первых вещей?
Михаил Левитин: Она не первая была уже у него. Она одна из последних. Он написал ее накануне смерти.
Леонид Костюков: Я имею в виду - первая в этой сфере, в этом жанре.
Михаил Левитин: Нет, он писал еще «Власть тьмы», там было все. А вообще-то, тогда давайте, я осмелюсь нагло сказать, что в этом плане лучшая пьеса Чехова - «Платонов», которую он написал в 18-19 лет. Дальше пошли чистые пьесы. Я их плохо понимаю. Я их именую для себя романами чеховскими и предлагаю их читать. Их бесконечные постановки вызывают во мне чувство глубокого раздражения. Все это такой мыслительный процесс: общество мыслит, мир мыслит, человечество разговаривает на эту тему. Читать это и писать это – это замечательно. Но когда к этому начинают прикасаться актеры – я против.
Но пьеса, огромная, толстая пьеса «Платонов», 19-летнего Чехова, мне кажется, вполне театр ее может откорректировать. А театр должен находить место для себя. Пьеса должна быть несовершенной. Тогда театр находит место для себя. Что-то же нужно театру делать. А какого черта он будет озвучивать пьесу? Сидеть, лежать, читать. Приятное дело.
Леонид Костюков: Насколько я помню, был один фильм, где Филатов играл человека, который ставит пьесу Антона Павловича, то, что там был фильм о театре, о пьесе, за счет вот этой вот двойной косвенности там был какой-то мощный успех.
Михаил Левитин: «Успех»
Леонид Костюков: Фильм так назывался - «Успех». Мне кажется, там все было сделано хорошо. Ну, там они не прямо поставили пьесу, а как бы поставили фильм о том, как ставят пьесу.
Михаил Левитин: Ну, может быть, может быть.
Леонид Костюков: Да, что поставить это сложно, хотя кажется, что легко, - это понятно.
Михаил Левитин: Дело не в сложности, дело в необходимости. Необходима ли пластическая операция красивому и замечательному женскому лицу, например, необходима ли? Я сомневаюсь. Может быть, у кого-нибудь такая придурь. Кто-нибудь скажет: «Хорошо бы у тебя глаз один был ниже носа. Давай, сделай для меня. Ты же меня любишь». Ну что это такое? Я не вижу необходимости. Читать, пусть читают. Театр не все должен делать. Не обязан.
Леонид Костюков: А если не делать эту самую операцию, то вовсе нет смысла, да?
Михаил Левитин: Оставить, надо оставить это лицо. Оставить это лицо в неприкосновенности. Иначе будут трактовки, трактовки, трактовки, желания - так, так.
Леонид Костюков: То есть театр не может и не должен быть очень бережным, да? Для него обязана быть своя свобода, а если в ней нет необходимости, то это ни к чему.
Михаил Левитин: Тогда не надо делать - надо помогать. Надо помочь, а если нет необходимости, не надо делать.
Леонид Костюков: Я помню, у нас в свое время вел занятия Виктюк, и у него была своя позиция, что пьеса должна быть слабой. Вот у него такая была позиция. Я так понял, это ваша позиция, но уже в крайней степени.
Михаил Левитин: Нет, нет. Роман поставил очень много слабых пьес. Поставил их и хорошо, и не хорошо, по-разному. Я ставил очень много только сильных и великих произведений, за исключением, может быть, редчайшим. И ставил тоже и хорошо, и плохо, и очень хорошо, и очень плохо, и так далее.
Слабая пьеса - вообще надо обойти ее. Обойти этого автора, этого человека. Беззащитность должна быть. В пьесе должно быть несовершенство. Несовершенство и слабость - это разные совершенно вещи, вы это прекрасно понимаете.
Леонид Костюков: Это я понимаю, поэтому я сказал, что это не ваша позиция. Это ваша позиция в какой-то там 55-й степени.
Михаил Левитин: Ну, может быть, да.
Леонид Костюков: Если я правильно понял, то может быть в том, что пишется сейчас слишком гладко, вам не хватает вот именно этой шероховатости, да?
Михаил Левитин: Ну да, система, которая очень крепко, очень закрыта.
Леонид Костюков: Она не нуждается в вас?
Михаил Левитин: Не нуждается.
Леонид Костюков: А вы, стало быть, не нуждаетесь в ней.
Михаил Левитин: Если театр, то не нуждается.
Леонид Костюков: Да и для жизни, наверное, тоже.
Михаил Левитин: Для жизни, может быть, тоже, да.
Леонид Костюков: Есть ли что-то такое, что вы бы очень хотели сказать городу и миру, а я вас не спросил об этом?
Михаил Левитин: Я хочу сказать городу и миру? Я ничего не хочу.
Леонид Костюков: Может быть, про то, что вы хотите поставить по Аксенову и Довлатову?
Михаил Левитин: Я вот поставил. Это было приятно и нетрудно. Это два рассказа, Аксенова и Довлатова. «Аксенов, Довлатов, двое» - называется спектакль. Он вышел очень странным образом. В 80-х годах я с Аксеновым собирался… он тогда еще не уехал в Америку. Я не имел никакого представления о том, что делается «Метрополь». Я вообще не знал ничего. Я занят был исключительно театром. И я предложил ему сделать к Олимпиаде рассказы, по спортивному рассказу. Он очень любил спорт, любил баскетбол. Написал рассказ «Победа», который у меня сейчас играется в этом спектакле, о шахматах. Я предложил - и мы с ним там что-то начали затевать. И вдруг эта неприятность огромная, скандал огромный с «Метрополем», и уже его нельзя ставить, и уже он уезжает, и как то распалось. И я забыл об этом. А потом через энное количество времени, когда он вернулся, он мне предложил роман «Вольтерьянцы и Вольтерьянки», они написали даже пьесу с Найманом - и я ее не захотел делать. Хотя мне всегда было очень приятно его видеть.
Затем, когда он ушел совсем, тогда мне предложила Ирина Барметова, главный редактор журнала «Октябрь», она сказала, не можешь ли ты сделать со своими ребятами к фестивалю «Аксенов-фест». И я поставил эту «Победу». Вот этот рассказ «Победа», который я должен был поставить в 80-м году, я вернул этот долг ему больше, чем через 30 лет. Я поставил. У меня случайно получилось. Шло 35 минут. И мы сыграли на «Аксенов-фесте».
Ну представьте себе, идет вечер Аксенова, любой вечер, любой концерт, татарский зритель, не татарский зритель, любой зритель. Ну не может 35 минут длиться какая-то вещь в контексте концерта, не может. Здесь восторженно приняли. Когда я это увидел, я подумал, что надо делать что-то такое второе, чтоб был еще спектакль, чтоб был полный спектакль. Вернулся с этим рассказом, я посмотрел, нет ли у Аксенова чего-нибудь, начал репетировать одну историю – не получилось, и как то отбросил и забыл. А потом - гораздо позже - понял, что дело не в Аксенове. Не только в Аксенове. В некой эпохе, в созвучии литературном, и это может быть другое имя.
И возник Довлатов, которого я совершенно не собирался никогда в жизни ставить. Причем возник один из первых его рассказов, почти никому неизвестных, «Солдаты на Невском». Ну, это просто, Бог его знает, 60-х годов рассказ, очень несовершенный рассказ. Он стал второй половиной вот этого маленького спектакля «Аксенов, Довлатов, двое». Это такой театральный каприз, но выяснилось, что все РСФСР, как говорил мой покойный друг Кононенко, все происходит в РСФСР. Это такое понятие - РСФСР, это очень такое серьезное понятие, тотальное.
Но оно такое для людей с юмором, это материал. А и Аксенов, и Довлатов - люди с юмором. Ну, вот родился маленький спектакль такой, вот он сейчас вот выходит.
Леонид Костюков: Не могу не спросить. То, что я сейчас спрошу, это мало имеет отношения к искусству, к литературе и к театру. Это имеет отношение к миру. Есть ли у нас будущее? У нашей страны? У нашего города? И вы меня извините, что я такие вещи спрашиваю, просто интересно. И если оно есть, то вот тот весь удивительный абсурд, та удивительная история, которая у нас была последние 100 лет, имеет ли это какие-то перспективы в нашем будущем? Или мы должны плюнуть на это все и строить наше будущее с белого листа? Как вам кажется?
Михаил Левитин: Я вам просто отвечу цитатой. Я не понимаю, ни о каком будущем речь идет, ни о каком прошлом. Я скажу, как в Талмуде:
- я разделяю эту точку зрения с Талмудом совершенно полностью. Относится ли она к нашей стране, относится ли она к миру, - это несущественно. Какая перспектива, о чем мы говорим?!
Леонид Костюков: С этой точки зрения все более или менее счастливо. У нас нет будущего, потому что его нет в принципе.
Михаил Левитин: Его нет в принципе.
Леонид Костюков: Да, тогда все хорошо.
Михаил Левитин: Как, впрочем, оказывается, что существуют приятные вещи – неминуемое прошлое. Вот такая иллюзия, замечательная иллюзия - прошлое, прошлое. А будущее – это абстракция, это ничто.
Леонид Костюков: Когда оно будет?
Михаил Левитин: Я даже думать об этом боюсь. При слове «будущее» я просто вздрагиваю. Мое ли… Мне даже за детей страшно, за любых детей, в любом уголке Земли. Какое будущее? О чем мы говорим. Прошлое - да. Прошлое – мама, папа, детство, хотя бы это. А какое будущее? О чем вообще мы разговариваем? Честно вам сказать, Леня, я с ума сойду, если буду думать о таком кошмаре.
Леонид Костюков: Этот ответ меня абсолютно устраивает.
Михаил Левитин: Вы сейчас затронули этот вопрос. А я сижу и думаю, что это такое, что ж ты так отвечаешь?! Ты отвечаешь, потому что тебе исполнилось энное количество лет, раздражающий тебя факт сокращения материи твоей - раздражающий меня очень-очень, он меня убивает! - или ты говоришь потому, что всегда так думал? Я всегда так думал. У меня даже такая эпитафия, придуманная мной лет 30 назад:
Вот это абсолютно исчерпывает тему моей жизни, понимание моей жизни. Очень любил прошлое, равнодушно относился к будущему и с удовольствием жил в настоящем.
Леонид Костюков: Спасибо огромное.
