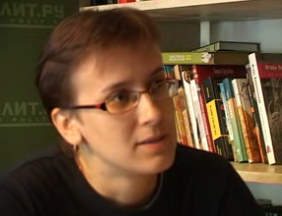
Полит.ру представляет очередную программу «Нейтральная территория. Позиция 201» с Натой Сучковой. Беседу ведет Леонид Костюков.
Москва, кафе «Нейтральная территория»
К.: Добрый день. У нас очередная встреча. У нас в гостях великолепный поэт, не боимся так сказать, Ната Сучкова. Здравствуйте, Ната.
С.: Здравствуйте.
К.: Вот вышла ее книга, показываем ее в кадре. И в 2010 году на данный момент, сейчас идет май, это одна из самых-самых великолепных книг этого года из тех, которые я видел. Ната, для начала, пожалуйста, одно стихотворение, чтобы стало понятно, с кем мы имеем дело.
С.: Хорошо. Спасибо.
***С.: Я понимаю. Да. Ну мне, кстати, очень удивительно то, что вы сказали, потому что я никогда не думала, вот сейчас только первый раз от вас это услышала, что текст изначально возвышен и его надо - чтобы была земля, его нужно опускать. Мне всегда казалось наоборот…
К.: Всегда казалось, что надо поднимать в воздух.
С.: Да-да, то есть для меня, видимо, оно вот именно идет от деталей, от земли, и чтобы выход в метафизику пошел, нужен какой-то выход вверх, то есть обратное. Я сейчас с удивлением это услышала и подумала, что, возможно, так и есть.
К.: Если входить в эту тему, то оно действительно так. Конечно же, стихи идут на взлет, но потом, когда они уходят как бы слишком высоко, многие авторы начинают их приземлять.
С.: Стараются придавить…
К.: Да, стараются приземлять. И сейчас вот такая, мне кажется, типовая ошибка: они его начинают приземлять, когда оно еще не пошло на взлет.
С.: Оно еще не улетело.
К.: Вот оно еще только-только думает оторвать колеса, так сказать, от взлетной полосы, а его уже… Есть такие авторы, которые очень боятся пафоса. А вот эта идея, что оно идет высоко с самого начала и надо дать ему землю, да? Не идет по земле, и надо ему дать взлет, а идет высоко, и надо дать землю – это, скорее, идеи пост-Серебряного века, идея Ходасевича, например. То есть в Серебряном веке, там было как бы в норме жизни, что стихотворение начинается сверху. Это не значит, что оно очень хорошо. Оно может начинаться сверху, как бумажный самолетик, который пустили с балкона, то есть это не значит, что они были настолько одарены и настолько возвышенны, что им этот взлет давался мгновенно и быстро. Они просто начинали его в каких-то сферах и очень многие… и оканчивали в сферах. И вот были такие стихотворения пустые, то есть я не считаю, что эта физическая высота очень хороша. А Ходасевич, он всегда давал вот эту землю, он давал всю вертикаль. И от него пошло вот это внимание к деталям, внимание к прозе в стихах. Ну, я, конечно, очень огрубляю. Ну хорошо, это отдельная тема, мы к ней еще вернемся. Первый вопрос - он не метафизический, он физический. Расскажите немножко о себе, о своей жизни. Вот что такое жизнь человека в Вологде? Поэта в Вологде? Для нас это какая-то terra incognita. Что такое маленький город? Что такое жизнь в маленьком городе? Действительно ли там все знают друг друга, все здороваются? То, что у вас вышла книжка в Москве, для Вологды это бомба или это в норме жизни? Вот что это такое?
С.: Да, очень сложный вопрос для меня.
К.: Объемный вопрос.
С.: Объемный, да. Но так получилось, что последние два года я живу снова в Вологде, до этого где-то лет семь жила в Москве, то есть тут получилась такая контрастность в ощущениях. Ну, родилась в Вологде и, соответственно, детство и юность тоже там провела. Вологда не такой уж маленький город, 350000 населения, конечно, невозможно знать всех, но в какой-то мере это верно. Это касательно среды. Но я думаю, что и Москва в этом смысле маленький город, то есть если мы говорим о среде литераторов, поэтов, грубо говоря, или отдельно о среде театралов, музыкантов, то это будут люди, которые общаются, знают друг друга и зачастую являются друзьями-приятелями.
К.: Или наоборот.
С.: Или, наоборот, врагами. Да. Это так, то есть с этой точки зрения, я думаю, отличие Вологды от Москвы минимальное или вообще не существует.
К.: Что вы делаете там, если не секрет? Как на жизнь зарабатываете?
С.: Ну, я по первому образованию юрист.
К.: Интересно.
С.: Да. Я закончила Юридическую академию и, соответственно, работала очень долго юристом.
К.: Вы адвокат или следователь?
С.: Нет, я занимаюсь гражданскими делами, исключительно гражданская правовая специализация. Я работала больше десяти лет юристом - сначала в Вологде, потом в Москве, то есть это единственный способ, который позволял мне в Москве каким-то образом существовать, потому что существовать в Москве, занимаясь…
К.: Только стихами…
С.: …только стихами…
К.: …никто не может.
С.: Да. И это проблематично, как мы понимаем.
К.: Нет, это не проблематично. Это невозможно.
С.: Да, это невозможно.
К.: То есть, скажем точно. Ну да. Это невозможно.
С.: Наверное, даже невозможно.
К.: Даже Гандлевский сидит у себя в офисе и зарабатывает как-то на жизнь.
С.: Да. То есть некоторым образом моя первая специальность меня кормит и кормила, но в данный момент я по ней не работаю, занимаюсь тем, что распродаю свою личную библиотеку, которая у меня накопилась, так скажем, за годы, проведенные в Москве… Ну, просто в Вологде это проще, на жизнь требуется гораздо меньше, скажем так, материальных средств и ресурсов, чем в Москве.
К.: Вопрос такой: а почему - ну то есть я спрашиваю как патриот Москвы - а почему не понравилось в Москве? Вот что?..
С.: Нет такого, что не понравилось, просто…
К.: Как-то чуть-чуть не срослось, не сложилось?.. Или имеете в виду вернуться все-таки в Москву?
С.: Честно говоря, я не знаю. Я не знаю, то есть я не могу ответить на этот вопрос сейчас, в данный момент. Каким-то образом мне проще в Вологде. В какой-то момент мне стало проще в Вологде.
К.: Почему?
С.: Это, наверное, не связано ни с чем. Это связано чисто с какими-то даже не бытовыми, а биографическими какими-то вещами моими личными.
К.: Темп жизни, уровень какой-то требований, количество дел за день в Москве, в Вологде…
С.: Отличается. Я скажу честно, что, конечно, московский ритм мне ближе, хотя Москва и Вологда энергетически, мне кажется, - два города, соответствующие друг другу. Кстати, у них даже год основания 1147. Москва и Вологда - ровесницы, скажем так.
К.: Насчет года основания Москвы у меня есть проект. Я сейчас даже скажу в камеру, может быть, кто-то услышит. Дело в том, что в Москве, в Тушино, в Сходненской пойме, найдена стоянка древнего человека. И я хочу послать как-то письмо Юрию Михайловичу, чтобы он отсчитывал Москву от стоянки древнего человека. Тогда Москве будет несколько тысяч лет, и она будет там такая же, как Рим, Вавилон. Это будет гораздо круче. И мы будем гораздо старше Вологды.
С.: Тогда да, тогда получится, что это не так.
К.: Вот. Я не знаю просто, как мне с этого снять какие-то сливки, но, может, и черт с ними, со сливками. Просто за город обидно. Ладно.
С.: Нет, ну что касается…
К.: В Вологде не было стоянки древнего человека, я надеюсь.
С.: Ну, возможно, что была.
К.: Тогда надо искать.
С.: Надо искать, да. То есть с точки зрения ритма жизни, конечно, есть отличия, то есть если в Москве в сутках, не знаю, минимум 36 часов, наверное, так вот по большому счету, то в Вологде их, наверное, 24.
К.: 24, но не меньше.
С.: Да. То есть есть ведь города, где время…
К.: 9, 5 часов приблизительно.
С.: Да, то есть как бы это все относительно. Допустим, Ростов Великий, город, где я детство провела, мне кажется, более медленный.
К.: Провинциальный.
С.: Он совсем провинциальный, совсем медленный и очень древний.
К.: Очень древний.
С.: Да, то есть, может быть, здесь какая-то вот молодость города, она ведь тоже как-то так ментально, видимо, воздействует. Вот, собственно…
К.: Понятно. Хорошо. Тогда будем считать, что ответ получен, хотя была у меня мечта услышать какие-то очень яркие детали. В Вологде всюду асфальт или там остались какие-то улицы, я не знаю, там глинобитные, мощеные?.. Водопровод? Газ?
С.: В Вологде асфальт очень плохой. Что касается бытовых каких-то вещей, то, конечно, Москва – город очень ухоженный. Очень. Невероятно чистый город. Невероятно город ухоженный, город зеленый. Как патриотка Вологды я не могу ее, соответственно, ругать, но с точки зрения, конечно, и дорог, и чистоты… там в этом плане что-то делается, но это заметно. Это ощутимо заметно.
К.: Да. Вот эта песня «В Вологде где-где-где…», вот характер этой песни, дом, резной палисад, - это о Вологде? Как-то характер Вологды в этой песне просматривается, или это просто песня?
С.: Я просто не могу эту песню воспринимать всерьез, потому что относительно этой песни существует масса всяких неприличных расшифровок того, где этот резной палисад на самом деле. Ну, буквально несколько лет назад в Вологде нашелся один резной палисад, его там всячески презентовали.
К.: Очень хорошо.
С.: Есть какие-то старые проверенные временем бренды, типа Вологодское масло, Вологодское кружево – то, что является такими общими местами.
К.: Масло там есть действительно? Хорошее?
С.: Масло действительно хорошее, но сейчас оно уже не такое, поскольку исчезли заливные луга, основной, скажем так, не ингредиент, но основная составляющая этого чудесного вкуса, – заливные луга – на которых паслись местные коровки во времена, когда Верещагин собственно эту технологию всю развивал, но, тем не менее, масло вкусное.
К.: Будущее есть - у Вологды, у Саратова, у Ростова, Таганрога и т.д., у всей нашей страны? Или вся молодежь все-таки мечтает поехать в Москву?
С.: Нет, я думаю, что не мечтает. И, кстати, это даже, мне кажется… меня даже как-то удивляет, то есть люди…
К.: То есть они находят себе места в Вологде. Что там есть? Какой-то завод? Какая-то удаленная работа в Интернете? Вот - что?
С.: Вологда – город не особо промышленный, в противовес, допустим, Череповцу тому же, который у нас рядом, и который - «Северсталь» и соответственно все вокруг этого, это системообразующее, градообразующее предприятие, даже область он, в общем-то, кормит благодаря этому. Вологда - город больше такой провинциальный, природный…
К.: Можно быть учителем, можно быть доктором…
С.: Можно быть учителем, но учителем, наверное, быть очень сложно. Общаясь с какими-то выпускниками нынешнего даже года и спрашивая их: ну что? как? вы пойдете в школу? - я ни от одного не слышала… ну, люди просто понимают, что на четыре тысячи - зарплата учительская, допустим, в Вологде, которую получит человек, придя после института, - это даже в Вологде прожить нереально, то есть это просто уже что-то запредельное.
К.: И кем хочет стать молодой способный, допустим, ну такой энергичный человек или девушка, которые оканчивают в Вологде школу или вуз? Какие там вузы есть?
С.: Вузов достаточно много. Во-первых, есть Университет педагогический, недавно ставший университетом, то есть готовит кадры именно…
К.: Готовит кадры на четыре тысячи. Ну, понятно. Да-да-да.
С.: Но со всей области все равно…
К.: Можно, если папа – генерал.
С.: Это да. Но есть же такие. Вот. Потом Политехнический институт, то есть это, опять же, инженерное, чисто техническое, честно говоря, вообще для меня темный лес. Филиал Московской юридической академии, старого ВЮЗИ, то есть это давний-давний филиал, не то что сейчас вот новомодные открываются…
К.: ВЮЗИ я знаю, у меня там училась жена.
С.: Филиал в Вологде существует очень давно, как раз тот, что я заканчивала. Молочная академия, к вопросу о Вологодском масле.
К.: Кружевная Академия?
С.: Насчет кружевной не знаю. Мне кажется, это какой-то такой народный промысел, который передается, я не знаю, какими-то мастерицами. Ну, кстати, вологодское кружево безумно дорого, так же, как и лен.
К.: Ну и кем стал, значит, человек, который все это окончил? Юристом, да?
С.: Допустим, стал юристом.
К.: Для города не нужно столько юристов.
С.: Не нужно. Юристов перепроизводство. Это очевидно. Мне сложно сказать.
К.: Почему они не хотят в Москву?
С.: Почему они не хотят в Москву, я не знаю.
К.: Но не хотят.
С.: То есть мне кажется, что это просто, видимо, не для всех актуально.
К.: Те, кто хотели, все уже уехали. Да? Может быть, это просто не актуальный вопрос. Надо было спрашивать 10-15 лет назад, да?
С.: Возможно.
К.: Хорошо. Ладно. Тогда поехали дальше. Вот то, что вы были в Москве много лет, да? А потом некоторый такой акт, жест такого удаления, да? Как видится из Вологды, издалека, ситуация в Москве? Уже ближе к литературе, к поэзии. Вот что это такое? Это, условно говоря, что-то хорошее, что-то такое энергичное? Или это что-то такое суетливое, что-то мелкое, что-то, уходящее в песок? Тем более, что вы были здесь и видели это, так сказать, изнутри…
С.: Мне сложно все это сказать, потому что я, конечно, понимаю, что существует некая литературная жизнь в виде публикаций, так сказать, непосредственно производства текстов и их какая-то презентация в виде публикаций в том же «Журнальном зале», допустим, или где-то на каких-то других ресурсах…
К.: Я имею в виду даже, скорее, устную жизнь.
С.: Ну да. И существует другая сторона этой медали – тусовочная. Ну, прямо так назовем – тусовочная. Да, и многие, конечно, мне сказали, что не надо уезжать, то есть ты уедешь – тебя забудут, надо постоянно светиться в тусовке. Ну, собственно говоря, у меня здесь не очень получалось часто светиться в тусовках.
К.: Да, я вас мало видел.
С.: Да. Просто в силу того, что, скажем так, когда есть какая-то работа, позволяющая тебе иметь какое-то количество денег, – совершенно нет времени, когда у тебя есть время, и ты готов его потратить даже, допустим, на какие-то литературные вечера или фестивали – наоборот… У меня вот такая ситуация складывалась, то есть пока я работала и имела возможность, может быть, даже за свой счет на какие-то фестивали поехать, - у меня не было времени на это.
К.: Ну, я имею в виду как раз, когда Москва, когда ехать, так сказать…
С.: Не надо никуда.
К.: …на метро на билетик-то хватит, да?
С.: Ну, это понятно.
К.: Не то что куда-то на фестиваль, а вот московская жизнь… И, допустим, человек сидит где-то юристом, но вечер-то в семь, а на самом деле в семь тридцать, рабочий день уже кончился, да? Ну, все-таки как-то вписываются тут люди…
С.: Вписываются, согласна.
К.: В семь тридцать, в восемь все-таки мало кто сидит в офисе, на работе.
С.: Ну, мне кажется, что круг людей, которые ходят на эти тусовки, круг, скажем так, читателей и круг писателей, они в этом случае совпадают. Это примерно одни и те же люди.
К.: Да. Ну как, весело с ними или нет? Или это?.. Ну вот, если честно, - или это какой-то акт вырождения? То есть понятно, что поэт является поэтом, когда он пишет стихи. Но кроме того, что он пишет стихи, ну, допустим, утром - хотя это не ко всем относится, просто для какой-то элементарности, да? Он пишет стихи утром. Допустим, он пишет стихи утром. А вечером он может пойти на поэтический вечер, а может не пойти. Может у телевизора посидеть. Вот что здоровее? Сходить или не сходить?
С.: Сходить или не сходить на поэтический вечер? В какой-то момент мне перестало казаться это здоровым занятием…
К.: Понятно.
С.: Честно признаюсь.
К.: Потому что мало нового хорошего…
С.: Ну да.
К.: Больше вот некоторой такой… такое общее одобрение. Немножко выпить водки с черемшой…
С.: Да. Появилась какая-то избирательность в посещении таких мероприятий, то есть то, что именно интересно. А по большому счету понятно, что вот этот момент выхода поэта к людям, скажем так, он ведь тоже важен, потому что ну невозможно… В любом случае ты написал текст – тебе хочется получить на него отклик, если ты уж не совсем такой социофоб и интроверт, что просто закрылся от всего мира. То есть я это знаю по себе, мне хочется получить отклик. Слава Богу, у меня есть люди, от которых я этот отклик могу получить, мне не обязательно за этим идти на литературный вечер и не обязательно быть в Москве при этом. То есть…
К.: Ну да, это сеть дает такую возможность, это Интернет.
С.: Да-да, это слава Богу, что есть Интернет, и такие люди есть, которым вот буквально…
К.: То есть мы медленно подходим к мысли, что сейчас место жительства становится как резус-фактор, да? что-то такое очень второстепенное? Через Интернет человек как-то строит свою среду общения. Все равно, где он находится, да?
С.: Да-да.
К.: В Нью-Йорке, в Монреале, в Вологде, в Москве, да? И вот это общение… Хорошо. Ну а энергетика личного общения, да? ну вот то, что человек, который тебе мил, так сказать… все-таки встретиться с ним. У нас часто бывает, что один человек живет в Москве, другой в Питере, и у них какие-то хорошие отношения, и все-таки там раз в году все-таки приезжают из Питера в Москву, из Москвы в Питер.
С.: Ну это ведь не большая проблема, из Москвы в Питер.
К.: Небольшая.
С.: Я согласна, что нужны личные встречи. Ну, вот вчера была презентация, да? Я была счастлива. Я была счастлива всех увидеть, то есть я не видела людей по году, два, некоторых, и я просто поняла, что да, это родные люди, несмотря на то, что мы не виделись, допустим, давно. Мне было здорово, приятно. Я получила какой-то такой толчок-позитив и надеюсь, что мне его хватит на какое-то время - это сгенерировать, сконцентрировать, в себе, как-то сохранить в таком, может быть, хрустальном яйце, не разбить, не расплескать.
К.: Понятно. Я вот спрашиваю это все, я хочу просто обозначить, что за мной какой-то позиции на эту московскую литературную жизнь не стоит. Вот я честно скажу: у меня бывает так, что я приду на вечер, и там настолько свои люди и, допустим, настолько хорошие стихи. Я думаю: какое счастье, что я живу в Москве, что… я еще живу в центре Москвы, там пешком дойти. И вот столько хороших эмоций - и от стихов, и от людей, и от чашки кофе, и от того, что перед вечером, и от того, что после вечера. Просто великолепно. И впечатление такое, что ты среди своих. Вот просто. А другой раз я приду на вечер – как-то мне и стихи не нравятся, и самое главное – ну, не самое главное, но важное – не нравится то, что на мой слух, на мой глаз, зал не отличает этих слабых стихов от тех очень сильных, которые были три дня назад. Залу все равно. И те же люди, которых я три дня назад был очень рад видеть, – сегодня я их не рад видеть. И мне кажется, что они это одно, я это совсем другое. И у меня день на день не приходится просто…
С.: Ну, это нормально, наверное.
К.: Нормально, да?
С.: Мне кажется, да. Разве нет?
К.: Мне кажется, что нет. Мне кажется, что если человек видит, допустим, тополь один день и думает: ТОПОЛЬ! А другой день думает: фу, тополь. Это какая-то блажь. Тополь-то не меняется.
С.: Приедается все.
К.: А, приедается все. Да-да, помню, фигура речи.
С.: Ведь это психологически, наверное, можно объяснить.
К.: Объяснить-то можно. Да. Ну, хорошо. Ладно. Вы меня утешили. Значит, мы постепенно переходим уже к вещам более метафизическим, более пафосным. Не будем этого бояться. Ваша личная картина ХХ века в поэзии, естественно, русской. Может быть, какие-то имена, какие-то пристрастия. То, что для вас именно важно. Не то, что мы на экзамене сидим, и я спрашиваю: ХХ век в русской поэзии. И вы должны отбарабанить. То, что для вас именно в первую очередь.
С.: Ну, я понимаю. Для меня…
К.: И в том, что сейчас происходит. Как бы ретроспекция и то, что важно для вас сейчас. Два вопроса в одном.
С.: Два вопроса в одном, понимаю. Что касается ХХ века… не знаю… Мне кажется, я как-то в своих поэтических пристрастиях и любовях осталась где-то в самом начале, так скажем, ХХ века, потому что так получилось, что вообще стихи для себя я открыла с Есенина, что, наверное, может быть, и характерно, а может быть, и не характерно.
К.: Для нашего курятника это не характерно.
С.: То есть это был Есенин, это была вот эта есенинская слеза и вот эта эмоция какая-то такая. Уже потом, позже, это стала Ахматова, Цветаева, то есть тоже такой достаточно традиционный набор, тем более это был какой-то конец 80-х…
К.: Я тогда вынужден уточнять. Есенин - этот вот как бы такой деревенский, широко раскрытый, ранний, пятнадцатилетний, да?
С.: Скорее, такой Есенин.
К.: Ахматова ранняя, да? наверное, тоже.
С.: Ахматова ранняя, да. А Цветаева…
К.: Цветаева вся.
С.: Цветаева вся, да. Как раз тогда вышел ее семитомник, когда вот эта у меня любовь к Цветаевой началась. Естественно, я не могла…
К.: И вы человек такой верный по сути своей, да? То, что идет оттуда, – есть такое чувство благодарности, да? Оно и остается.
С.: Ну, я не могу сказать, что я уже вот это прожила, прошла и как-то… Хотя в какой-то мере, наверное, да. Потому что сейчас… то, что мне нравится сейчас оттуда, это, скажем так, поздний Иванов…
К.: Чуть-чуть об Иванове. Потому что у нас тут каждый раз идет речь об Иванове, потому что это мой самый любимый поэт, то есть для меня Георгий Иванов - это просто всё. Ну, поздний Иванов, понятно, со сборника «Розы», да?
С.: Да, ну именно, скорее, даже «Розы». Такая простота не банальная, когда за простыми словами, вроде бы миллион раз проговоренными, вдруг возникают такие смыслы, вырастающие из ниоткуда.
К.: Может быть, самые главные смыслы, которые там были изначально, и которые припорошились какими-то невнятными, а он вытаскивает первый, самый главный смысл.
С.: Возвращает слову…
К.: А какие стихи Иванова больше всего любите? Ну, понятно, что их там…
С.: Не знаю какие. «Синеватое облако, холодок у виска…», допустим. Гениальное стихотворение, где названа всеми этими словами, где передана такая ситуация… Ну, много.
К.: Понятно. «Что-то сбудется, что-то не сбудется…» Да?
С.: Да. И вот это его «И настоящих слов мы не находим, а приблизительных мы больше не хотим». Это просто мне стало близко.
К.: Просто девиз.
С.: Это мне стало близко в какой-то момент, я поняла, что - да, и то, как я писала раньше, это была, конечно, вот эта вот…
К.: Приблизительность, да?
С.: Приблизительность, такая версификационная накрученность, накрученность, накрученность, желание написать длинно, сказать вокруг да около, сказать витиевато, сказать красиво, наплести кружев…
К.: Такой неожиданный вопрос по поводу этого. Не кажется ли вам, что это немножко литинститутский синдром?
С.: Писать красиво - или?..
К.: Писать красиво, вбивать в стихи очень много. Я часто вижу такие стихи… У меня есть свой семинар. Ко мне на семинар ходят самые разные люди, примерно половина из Литинститута, они окончили Литинститут или учатся в Литинституте. Я могу сказать, что такое литинститутское стихотворение. Оно действительно… оно большое чаще всего, но оно большое в двух направлениях: оно как бы высокое, то есть длинное, и оно широкое, то есть строки тоже длинные. Очень много в него вбито. Вот там очень много мифологического, там часто очень будет и Кассандра, и то, и се – впечатление такое, что человек сходил на пять лекций, послушал того-сего…
С.: И все с подкорки списал.
К.: И все… да-да-да, все вбил в это стихотворение. И очень много действительно версификационной работы, то есть видно, что вот оно. Вот оно. Нет какой-то легкости.
С.: Ну, мне не кажется, что это какой-то литинститутский… мне кажется, это характерно просто для какого-то возраста.
К.: Для начинающего поэта.
С.: Да, для какого-то возраста, даже не столько для начинающего… ну, может быть, для начинающего, причем не в стадии совсем примитивного ученичества, а уже достигшего некоторых высот, скажем так, в версификационной именно составляющей, нахватавшегося этих всех архетипов, этих античных штук, всяких интересных вещей, которые хочется непременно проговорить…
К.: Согласен, что это можно сделать и помимо Литинститута. В Литинституте это как-то очень уж… поставлено на конвейер.
С.: Возможно, возможно. Я просто, опять же, вот здесь, может быть, как-то нехарактерно, что в Литинститут когда поступила, уже так писала. Скажем так, уже так писала…
К.: Да, и Галина Ивановна Седых этому не учила, конечно. Галина Ивановна - человек весьма адекватный.
С.: Нет, семинар-то, конечно, наш адекватный. Он очень много мне дал в плане общения именно, то есть мы до сих пор общаемся с этими людьми, даже с теми, кто его не закончил, этот семинар, это, конечно, самый большой плюс Литинститута. Ну, еще возможность, конечно, жить в Москве, в общежитии - хотя бы во время сессии…
К.: То есть ваши семь лет в Москве - это, в частности, было связано с Литинститутом?
С.: Да. Это было… ну скажем так, в 2000 году я поступила в Литинститут, это было заочное отделение… но опять же два месяца в году минимум я была в Москве. Я поняла, что это мне нравится, что это меня прет, скажем так. И в какой-то момент в 2002 году я просто взяла сумку и приехала в Москву. Ну, то есть это было связано. И параллельно, конечно, происходила и учеба – ну, и всякие другие вещи…
К.: Ясно, ясно. Хорошо. Значит, Иванов. Иванов, кстати говоря, очень хорошо писал о Есенине. Помните, да? У него…
С.: К сожалению…
К.: Ну, там мысль такая, что… это мысль такая, которую мы знаем и без Иванова, что Есенин - это то, на чем могут сходиться оказавшиеся, может быть, в каком-то купе бывший белый офицер, слесарь, то есть…
С.: Мне кажется, это актуально до сих пор, потому что Есенина очень любят люди, совершенно далекие от поэзии, и даже, может быть, Цветаева для них - темный лес, но вот Есенин - это почти беспроигрышный вариант в этом смысле.
К.: Для меня Есенин значит очень много, сразу скажу. Но для меня, скорее, много значит не этот вот Есенин с лубочных портретов, а Есенин «Черного человека», Есенин монолога Хлопуши, например. Да? Когда там не какая-то, не знаю даже, как это назвать, буколика идет, когда идет мощнейшая сила. Мне кажется, что Есенин - это поэт невероятной силы, в первую очередь. Вот образ Есенина. Давайте чуть-чуть даже про Есенина поговорим, потому что мне кажется, что Есенин - вот самый прямой путь к тому, чтобы его понять, - это человек, который достиг всего, о чем мечтал. Да? То есть он мечтал поставить на колени Москву, Лондон, Париж – он поставил. Он мечтал, будучи человеком… ну, он, правда, не был никогда человеком сельским. Вот это очень важный момент. Потому что Константиново - это был поселок городского типа уже тогда. То есть почему Есенин и путает все, когда какой там злак вырастает, на чем Бунин его ловит, потому что он особенно на эти злаки не смотрел, там уже был почти что асфальт. Ну, это ладно, это был такой миф просто, который он нес, а самое главное, что он хотел ходить в котелке – и он ходил в котелке, с тростью. Он хотел, чтобы у него жена была там актриса, балерина там – была актриса и балерина. И он всего достиг, чего хотел, то есть человек невероятно сильный. Опять же у Иванова есть воспоминание, как они сидят в каком-то кабаке под утро. Есенин, огромное количество прихлебателей, все такое прочее… Ему приносят под утро счет, думая, что он подпишет его не глядя. И он буквально там: А это что такое? – Это шашлык-с. – Откуда шашлык? – Да вот его господин заказывал. - Так он его даже не коснулся! Он его вычеркивает, то есть у него все под контролем, то есть вот такой поразительный человек.
С.: Ну, это еще тут витальная сила, видимо, и поэтический талант, и сочетание вот этой вот силы витальной…
К.: А я думаю, что это на самом деле просто одно и то же. Хотя нет. Хотя да. Да, это две стороны одного и того же.
С.: Ну, как-то да. Вот, допустим, нельзя сказать, что у Мандельштама был какой-то вот… то есть поэтический дар – да, сила вот именно поэтического слова, мысли – да, но такой, мне кажется, дар вот этой витальной жизненной силы, мне кажется, такого… Ну это нам видится все, конечно, условно. Мы же воспринимаем все-таки это все по мемуарам, по каким-то косвенным, так сказать, признакам, поэтому нам сложно сейчас сказать. Здесь можно говорить только о своем личном отношении.
К.: Хорошо. Значит, Есенин, Ахматова, Цветаева, то есть это вот такая не совсем стандартная троица, но понятно. Это такие вундеркинды своего рода, то есть это талант, который проявлен крайне рано. И Иванов, человек совершенно другого типа, который выпустил шесть слабых сборников стихов, казалось бы, можно на нем крест поставить, а он вдруг становится великим поэтом.
С.: Ну, вот он дописался.
К.: Мне кажется, это вдруг какой-то слом мгновенный совершенно. Не то что дописался, а просто вот одно - вот другое. Ну, это ладно. Это отдельная история. Кто еще?
С.: Что касается, скажем так, более недавнего, можно так сказать, прошлого наследия, мне очень близка Нина Искренко - ее какая-то поэтика, ее какая-то ирония, ее вот… ну даже не знаю. Все, фактически все. Вот, а что касается каких-то уже современных, скажем так, действующих литераторов, то когда только я приехала в Москву, для меня страшным открытием стал Дмитрий Воденников, то есть буквально он меня потряс. И признаться в этом не считаю зазорным. А то, за чем я слежу, то, что мне нравится, – Ирина Ермакова, допустим, это очень мне близко, особенно книга «Улей». Мне кажется, что это какой-то правильный такой вектор движения, такая вот эпика, проявленная не прямо, а исподволь, в каких-то таких житейских историях, пропущенных через себя. Это то, что мне близко, это то, что, наверное, мне бы хотелось каким-то образом делать, но по-своему.
К.: То есть Ирина, я бы сказал так, на мой взгляд, - это человек, очень верно расположенный по отношению к миру. Вот мне кажется так. Очень как-то верно… ну то, что вы сказали, да? история, попущенная через себя.
С.: Адекватно воспринимающий, то есть бывает ведь, поэт в тексте как-то так преломляет мир, что тот перестает быть вообще вот этим миром. Ну он, понятно, перестает быть объективным, но он создает некие вообще миры, некие подобия, некие симулякры, я не знаю даже, как это назвать, то есть этот мир, он может затянуть тебя, но ты понимаешь, что это не реальный мир, это мир, возможно, его фантазии, возможно, это… какое-то 3D такое.
К.: Да- да. Вы сейчас своими словами пересказываете открытое письмо Заболоцкого Введенскому. Знаете?
С.: Нет.
К.: Нет? Вас учили этому в Литинституте?
С.: Возможно, учили, но я этого, к сожалению, не помню, видимо, я тут пальцем в небо.
К.: Мы находимся как бы в мастерской слепого скульптора, который построил свои какие-то миры, сделал свои удивительные открытия, мы ходим по ним, удивляемся, но назавтра мы проснемся в своих постелях и скажем: А старик-то был неправ. Это уже самая концовка, ну, я близко к тексту это рассказываю, но все-таки не наизусть. А до этого он пишет, что – буквально то, что вы говорите – что вы строите свои миры, которые могут удивлять, которые могут там все такое прочее, но на самом деле жизнь устроена иначе. И отказ его от идеологии ОБЭРИУ, уход в то, что мы называем поздний Заболоцкий, да? это вот именно… ну, в частности, в этом открытом письме.
С.: Ну, вот это то, что мне нравится у Ирины и то, что я считаю, что она очень…
К.: А Воденников? Воденников, ведь он все-таки… Или он тоже?..
С.: Ну Воденников - тут другое…
К.: Нерв такой.
С.: Это несколько более раннее мое, так скажем, увлечение, в отличие от Ермаковой, хотя я тоже следила, я помню…
К.: Воденников… Я спрошу так: подействовали в первую очередь тексты или сам Воденников, как он читает…
С.: Наверное, и то и то. Потому что здесь сначала, наверное, я его услышала и увидела, и это произвело на меня определенное впечатление, очень сильное…
К.: Мне кажется, что в Воденникове все-таки есть некоторое такое актерство или это действительно поэт харизматический, как, например, Блок. Не знаю…
С.: Мне кажется, тут сложно отделить. И мне сложно отделить. Ведь когда подпадаешь под очарование чего-то, ты не начинаешь разлагать его на части, чтобы понять, почему, что вызывает вот это собственно очарование.
К.: Конечно, безусловно. Это даже к салату относится. Ешь салат, тебе нравится салат, не думаешь, что же там в салате…
С.: Какие там ингредиенты, собственно? Поэтому это случай такой, когда такое адекватное сочетание текстов и личности.
К.: Я не против Воденникова абсолютно. Мне некоторые стихи Воденникова очень нравятся. Вот про петуха, зайца, волка – там у него есть стихотворение…
С.: Ну, я страшная фанатка книги «Мужчины тоже могут имитировать оргазм».
К.: Само высказывание спорное.
С.: Ну, само высказывание, наверное, спорно.
К.: Название отдельно.
С.: Да, название - это отдельная история. Но вот именно нерв … Это то, что трогает.
К.: Для меня Воденников - далеко не последний поэт, то есть я сразу говорю, мне немножко – это опять же не вопрос, просто хочу обозначить свою позицию – мне немножко мешает, что - мне кажется, по крайней мере, - что он вот этот свой нерв немножко расчесывает, чуть-чуть он как бы его педалирует… Вот ситуация, условно говоря, вызывает у него какую-то очень естественную нервную реакцию, а он ее немножко усиливает. Вот, скажем, есть такой поэт Михаил Гронас, чем меня в свое время действительно потряс Михаил Гронас, - тем, что это было какое-то безумие, безумный мир, но в то же время вектор этого безумия был такой – человек хочет быть нормальным. Он настолько далеко находится в безумии, что ему не надо делать шаг туда, он делает шаг обратно, оттуда. Он старается упорядочить, но он находится в настолько разорванном мире, что даже привнося порядок в этот хаос, он все равно остается в хаосе. И вот это на меня страшно подействовало. То, что человек хочет вылечиться, а все равно там действует эта болезнь. А Воденников хочет болеть, мне кажется.
С.: Такое удивительное совпадение, мы сейчас… я ехала сюда, к вам на интервью, и со своей подругой московской разговаривала. Она говорит: ты нервничаешь, у тебя повышенная тревожность. Я говорю: ну, это нормально. Это же нормально, говорю, люди специально… то есть я ей буквально говорила то, что вы сейчас говорите. Я говорю: люди специально же провоцируют, доводят себя до истерики, из минимального чувства пытаются сделать, извлечь максимум пользы. Это же нормально, это же в природе поэта, - говорю я ей.
К.: В природе Воденникова.
С.: В природе поэта. Мы не говорили о Воденникове, мы говорили конкретно просто…
К.: Я уточняю, что не все поэты… Да-да-да.
С.: Ну - вот то, что вы сказали сейчас. И она мне говорит, что как так, ведь нормальные люди пытаются избавиться от этой тревожности, они лечатся, то есть вот то, что вы сейчас… Просто такое совпадение удивительное.
К.: Да- да. Мне кажется, что литература, будь то поэзия или проза, конечно же, существует на грани безумия, конечно же, становится особенно интересна на грани безумия. Но очень хорошо, когда автор сделал шаг за эту грань и пытается вернуться оттуда сюда, а не когда он стоит с этой стороны и стучится в эту грань. В эту грань не надо стучаться, то есть…
С.: Ну тут надо – не надо - вопрос уже, наверное, другой. Потому что ведь очень сложно отказаться от этого кайфа, скажем так, когда ты уже почувствовал вот это, что ты можешь, что ты был там. Уже отказаться от этого… уже получается, в некоторых случаях провоцируешь себя специально на это.
К.: Понятно, понятно. А вот такие фигуры, как, допустим, Гандлевский, Веденяпин, Байтов, вот такие поэты.
С.: Ну, просто я, наверное, нельзя сказать, что… Я спокойна достаточно к этому, то есть я что-то… Я стараюсь читать, как-то следить, но если меня не трогает, я никогда искусственно…
К.: Хорошо. Великолепно. Значит, есть ли у вас какое-то, может быть, авторское определение того, что такое поэзия? Это я спрашиваю почти у всех.
С.: Что такое поэзия?
К.: Что такое поэзия. Да.
С.: Авторское.
К.: Ну - или, может быть, не авторское, может быть, то, которое вы где-то видели…
С.: Вот насчет авторского, наверное, мне сложно, потому что…
К.: Что для вас поэзия?
С.: Я тоже уже говорила, что я себя не могу позиционировать как поэт, мне как-то это претит, и я не могу, то есть мне гораздо проще, наверное, какое-то читательское свое определение.
К.: А как кого вы себя определяете? Как частное лицо, которое пишет стихи, да?
С.: Ну да, видимо, так.
К.: Как Анненский. Хорошо.
С.: Вот и поэтому, скорее, такое читательское определение поэзии, да? Ну тут можно согласиться, да? там - «лучшие слова в лучшем порядке»… Но для меня, конечно, важны как слова, так и вот этот нерв, то есть не как форма и содержание, а как то, что пытаются выразить, и то, что на выходе получается: это ведь не всегда совпадает. Когда происходит некое совпадение, когда я понимаю, как мне кажется, что хотел сказать человек этим текстом, когда я вот настолько проникаю в этот текст - он так сделан, что он позволяет мне в него проникнуть – тогда я думаю, что это да, это поэзия. Ну и плюс, конечно, глупое такое определение, как какой-то процент чуда, который каким-то таким органом, который вот не является органом, видимо, чувств, ощущаешь.
К.: То, чего не может быть.
С.: Да. Ну, это как-то ощущаешь, то есть либо это есть, либо этого нет. Я не знаю, каким это местом…
К.: Ну, процент чуда часто люди определяют вычитанием. Они все, что могут понять, понимают, и либо остается что-то, чего они не могут понять, либо уж не остается. Вот есть такой жест, так сказать, постараться понять все, что можно. Да?
С.: Ну, я говорю, что я стараюсь не расчленять, не выделять, то есть для меня очарование, конечно, - это первично, а дальше уже идет такое, что либо мне интересно, либо неинтересно докапываться до смысла.
К.: Очарование, смешанное с удивлением, да?
С.: Да. И такое неожиданное - то есть, конечно, это должен быть элемент неожиданности. Потому что когда много стихов читаешь, уже начинаешь вот эти общие места, и даже такие не совсем общие, а такие не явно общие, но все равно общие, уже ставшие общими, начинаешь их уже видеть, вычленять…
К.: Неявно общие места.
С.: Да. Неявно общие места вычленять - и поэтому уже ждешь нового.
К.: Согласен. Такой последний вопрос: идеальная картина жизни поэта. Я сейчас чуть-чуть поясню, потому что у нас это возникло в последней нашей беседе с одним поэтом. Если бы можно было выбрать, если бы был какой-то метафизический магазин. Вот образ жизни, допустим, дворянина, который имеет доход со своих имений, может жить, ничего не делать, слоняясь по своей усадьбе, по парку, время от времени пиша стихи. Или писать стихи, иметь успех и с этого иметь какой-то… Вот как вот.. Как может встраиваться поэт в мир самым комфортным, на ваш взгляд, способом?
С.: Ну, мне кажется, тут такая вещь, на мой взгляд, поэт не должен из мира как-то вычленяться, то есть вот это позиционирование себя как поэта, оно, мне кажется, приводит к каким-то таким вырожденческим вещам…
К.: Поэт – школьный учитель, поэт – доктор, поэт – юрист, поэт кем-то работает, да?
С.: Ну, наверное, идеальный поэт - это человек, который в какие-то разные периоды времени попробовал разные вещи, в том числе разные, скажем так, сферы деятельности, разные страны, допустим, ну, то есть - это человек, который просто живет.
К.: Понял, то есть идеальная картина, что вот есть какой-то Иван Павлович, про которого мы думали, что он страховой агент, потом он некоторое время вел занятия в вузе, потом он что-то делал… Вот у него там жена, дети, у него там все такое прочее… Он ездит на дачу, кверху задом там это самое… Вот он в 75 лет умер, и вдруг осталось огромное количество стихов, и мы поняли, что он еще и был поэт.
С.: Нет, не совсем так. Наверное, это некое понимание внутреннее того, что ты… не позиционирование себя как поэта, да? как внешнее позиционирование – Я поэт…
К.: Зовусь я Цветик.
С.: Да. Некое именно понимание внутри, что ты поэт, и некая такая отстраненность наблюдения, то есть не просто ездит на дачу, жена, дети, а некое восприятие жизни, как некой – ну, не творческой лаборатории, а как некоего материала. Но я думаю, это и есть у всех, у всех поэтов и вообще у писателей.
К.: Я думаю, что это к писателю относится даже больше, чем к поэту.
С.: Даже к прозаику, да, то есть наблюдение за жизнью, как будто бы ты немножко не в процессе, а немножко чуть-чуть отходишь. Но мне кажется, для поэта это тоже актуально. И поэтому очень важно… очень важен вот этот опыт не книжный, то есть не прочитанный где-то.
К.: Чтобы было насыщение жизни.
С.: Чтобы жизнь была насыщена, то есть такая жизнь, когда ты можешь менять род занятий, менять страну пребывания, возможно, даже менять, в идеале, время, то есть я жалею иногда, что нет такой машины времени, что –раз! – я в 50-х, - раз! – я в начале века.
К.: Нам в Москве кажется, что есть такая машина времени. Мы только выехали за МКАД – сразу лет пятнадцать назад, отъехал на триста километров – лет тридцать назад, то есть у нас вперед трудно, а назад-то легко.
С.: Ну, тем не менее, если говорить об идеальном, наверное, мне кажется, вот так должен жить поэт, и вот это все…
К.: То есть он должен жить, мыслить, страдать, и в то же время вот эту легкую дистанцию иметь, когда часть его существа находится… и иметь, может быть, час в день …
С.: Да, и иметь время. Или это должны быть некие периоды, то есть некие периоды интенсивной жизни.
К.: Час в день или месяц в год.
С.: Да, то есть некие периоды интенсивной жизни, там, допустим, занятия чем-то, что его увлекает и откладывается на подкорке. И потом какое-то время досуга, потому что без досуга, конечно, ничего невозможно.
К.: Огромное спасибо. Есть ли что-то такое, что вы бы хотели сказать «городу и миру», а мы вас не спросили?
С.: Я думаю, что все спросили.
К.: Все спросили. Все. Огромное спасибо.
С.: Спасибо.
* * *
1. Сестрица Аленушка:
бестолковый мой братец — шевроле лачетти, золотой вихор —
по каким гастролям ты нынче и сыт, и пьян?
помнишь косы мои — всегда на прямой пробор?
помнишь дом-колодец, школьный двор, бурьян?
бестолковый мой братец, о, как я тебя ждала:
никаких продленок, а за руку и — домой,
пацанов, которые пьют всегда из горла,
за пять верст обходили мы с тобой стороной.
а теперь на дне своих оркестровых ям,
чьих хрустальных туфель ты ищешь, скажи, следы?
что за страсть такая в тебе к золотым кудрям,
что на жажду эту не напастись воды?
от того ты всякую гадость и тащишь в рот,
от того и льет из тебя этот чертов свет,
от того и дудка твоя так прекрасно поет,
ой, прости, кларнет.
2. Братец Иванушка:
Разве я сторож, скажи мне, моей сестре?
Да где угодно — мотается по стране!
Дива, модель, красота в золотой облатке,
Видишь лицо ее вон на той шоколадке?
Пальцы мои все еще сладки.
Да, у меня по карманам игральные кости,
Да, невозможно нам вместе и плохо врозь нам,
Да, путешествую я налегке:
С марихуаною в спичечном коробке.
С дудочкой на языке.
Этот концертный кофр кое-где прожжен.
Каждый, любой, все равно — мне теперь дирижер,
Каждый, любой из меня извлекает стон,
А во втором коробке — майский жук погребен.
И да простится ей он.
Городишко захолустный…..
Вот звенящие пчелы….
*** Вот звенящие пчелы, лоскут домотканого сада,