Обесценивается ли золото, когда его слишком много? Куда исчезает искусство, когда оно становится слишком популярным? Климт, Шиле и другие герои венской жизни выглядят сегодня едва ли не девальвированными. Выставка в базельском фонде Бейелера «Вена 1900. Климт, Шиле и их эпоха» возвращает им былую ценность. Она собрала около 300 работ, посвященных Вене начала ХХ века. Из сегодняшней перспективы город кажется чем-то выдающимся, уникальным, местом, где соединилось столь многое, что впору его, а не Париж называть столицей мира. Но миф Вены как культурного мегаполиса появился не сразу, черты Gesamkunstwerk’a на портрете города стали проступать постепенно. Современники были готовы видеть в городе на Дунае столицу империи, и не готовы – город новых культурных горизонтов. Усталость Габсбургов откладывала отпечаток на все. Сам Фрейд страдал от удушающей венской атмосферы, и, после многолетних бесплодных попыток выстроить научную карьеру, находясь в депрессивном настроении, решил отказаться от академической судьбы и стать обычным практикующим врачом.
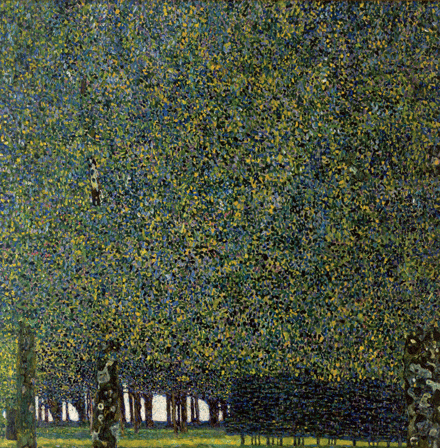
Gustav Klimt. Der Park, 1910 oder früher. Öl auf Leinwand, 110,4 x 110,4 cm. The Museum of Modern Art, New York. Gertrud A. Mellon Fund © 2010. Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence
Портрет Фрейда – один из двух десятков, встречающих зрителя в фойе фонда Бейелера. Фотографии показывают тех, кто на рубеже определял художественную и интеллектуальную жизнь Вены. Коло Мозер и Оскар Кокошка, Отто Вагнер и Адольф Лоос, Густав Малер и неизбежные Густав Климт с Эгоном Шиле, те, кто так или иначе соотносил себя с девизом сецессионистов, сформулированным Людвигом Хезеви: «Времени – его искусство, искусству – его свободу». В выставочных залах – живопись и рисунки, текстиль и мебель, стекло и архитектурные планы, все, что овеществляет эфемерную культуру кафе и кабаре, главного, как казалось поначалу, содержания венской самобытности. Экспонаты собрали из крупнейших музеев мира, от Амстердама до Нью-Йорка, и многочисленных частных собраний, в том числе с Багамских островов. Но в первую очередь интерес вызывают австрийские коллекции, начиная с Альбертины. Главным же поставщиком прекрасного стал венский музей Леопольда (где сами базельцы как раз показывают the best собственной коллекции).
Что-то лишь обозначено – как знаменитый бетховенский фриз Климта, который представлен не оригиналом, но фотографией. Без фриза в разговоре о Вене никуда: с ним связана одна из главных утопий времени. Фриз делался для здания Сецессиона, в котором предполагалось разместить скульптуру Бетховена работы Макса Клингера. Так создавался священный круг почитания искусства: художники строят здание Сецессиона в честь произведения скульптора, восславляющего гениального музыканта. Карл-Эмиль Шорске называет это апогеем попыток «превращения искусства в заместителя религии, предлагающего убежище от современной жизни»[1].

Friedrich Strauss. Das Ausstellungsgebäude der Secession Wien vom Gemüsemarkt, 1899. 11 x 15,5 cm. Wien Museum
Эта эстетика провоцировала современников. Лучше всего ее противоречие устоявшейся традиции поняли 87 членов преподавательского совета венского университета, для которого Климт на рубеже веков делал три плафона. Они не смогли согласиться с правом искусства определять время, в котором оно очутилось, неуместной показалась им и та свобода, которую требовали для себя художники. Профессора подписали петицию с требованием отклонить работу Климта. Заказчиком выступало министерство по делам просвещения и религии, и оно не могло не прислушаться к мнению налогоплательщиков: империя империей, а выборы проходят регулярно.
Вскоре после создания бетховенского фриза и громкого скандала с плафоном «Юриспруденция», Климт фактически отказывается от работ по государственным заказам и переходит к портретированию венской элиты. В это же время создаются многочисленные рисунки, долгое время не выставлявшиеся в силу их порнографичности. Климт избежал публичных скандалов, в отличие от Шиле, который даже привлекался к суду – сперва за растление малолетних, затем, по недоказанности первого обвинения, за распространение порнографии. В итоге обошлось тремя неделями тюрьмы – срок для художника по нынешним временам едва ли не смехотворный.
Эротизм был свойственен символизму, который в чистом виде в Вене едва ли присутствовал, но повлиял на многое. В Сецессионе выставляли, например, работы бельгийца Фернана Кнопфа (1858 – 1921) и швейцарца Фердинанда Ходлера (1853 - 1918). Только влияние это шло скорее по линии отталкивания, нежели притяжения. Мистическое и потустороннее подчинилось в творчестве венцев подчеркнутому физиологизму, графической ясности рисунка. Они словно оказались по разные стороны баррикад с Фрейдом, оставаясь с ним потаенными единомышленниками.

Egon Schiele. Edith Schiele in gestreiftem Kleid, sitzend, 1915. Bleistift und Gouache, 50,8 x 40,2 cm. Leopold Museum, Wien. Foto: Manfred Thumberger
Фрейд пытался проникнуть в тайны психики через сновидения и комплексы. Климт и Шиле стали рисовать тела так, будто перед ними географические ландшафты. Со временем этот ландшафт становился все более вздыбленным, словно он постоянно переживал землетрясения, по нему текла раскаленная лава и регулярно падали метеориты. В итоге он стал похож на карту, использовать которую трудно, но забыть уже невозможно.
Путешествия по маршрутам этих карт, проложенным сто лет назад, не закончились до сих пор. Человеческое тело стало главным героем искусства ХХ века, которое то абстрагирует его до геометрических линий, то буквализирует и фетишизирует под светом 500-ваттных ламп, как у Люсьена Фрейда.
Радикальный взгляд на тело уподобляет венских художников анатому с душой поэта и скальпелем в руке. Те же бельгийцы, например, в изображении смерти, одном из излюбленных сюжетов символизма и югендштиля, оставались крайне деликатны, если не сказать задумчивы, они обозначали атмосферу приближением к ней, но редко когда решались обнажить покровы. Австрийцы же не могли остановиться, кажется, уже ни перед чем. Мутации формы обернулись и мутациями цвета: революция, устроенная Оскаром Кокошкой, мало в чем уступает подвигам немецких экспрессионистов. Вровень с ними мог бы со временем стать и Арнольд Шенберг, но он решил профессионально заниматься не живописью, а музыкой. Его картины предоставил базельцам музей Леопольда – равно как и столовое серебро Йозефа Хофмана, и столы-стулья Адольфа Лооса для кафе Museum, и полотна Рихарда Герштля (их привезли еще и из музея швейцарского Цуга). Герштль учил Шенберга живописи, влюбился в его жену и из-за несчастливого романа кончил жизнь самоубийством. Кажется, чудом избежал подобный участи и Кокошка, чей трехлетний роман с Альмой Малер, вдовой композитора, мог бы занимать сегодняшних телезрителей в течении не одной сотни серий.

Oskar Kokoschka Selbstbildnis, 1917 Öl auf Leinwand, 79 x 63 cm Von der Heydt-Museum Wuppertal © Fondation Oskar Kokoschka/ 2010, ProLitteris, Zürich
Эпидемия самоубийств в начале века была не только австрийским феноменом. Но мало где еще они имели столько подтекстов, как в Вене, городе, пропитанном консерватизмом и одновременно мятущимся и страдающим от отсутствия нового. Радикальность поисков, от эстетических до сексуальных, во многом определила атмосфера монархии на закате, торжество бюрократии, негибкость церковных кругов и то, что в поздние советские времена назовут застоем, а в постсоветские – суверенной демократией. Вена словно жила в двух временах сразу – циферблат одного будильника еще отсчитывал часы классицизма, циферблат другого уже обгонял модерн. «Человек без свойств» Роберта Музиля точно описывает эту удушающую атмосферу, чья плотность провоцировала на сопротивление. Новый дизайн, предложенный Wiener Werkstaette, новые фасады, вычерчиваемые Адольфом Лоосом, новые сочетания звуков и красок – все предупреждало сограждан, что мир неустойчив, ощущение покоя временно, а изменчивость грозит не только внешнему, но и основам. Граждане предпочитали судиться из-за неконвенциональности искусства, указывать на финансовый неуспех «Венских мастерских» и не думать в категориях истории.

Josef Hoffmann Sitzmaschine, ab 1906. Buchen- und Sperrholz, mahagonifarben gebeizt, mit Polsterung, Rückenlehne verstellbar, 110 x 68,5 x 82,5 cm. Ausführung: J. & J. Kohn, Modell 670. Kunsthaus Zug, Stiftung Sammlung Kamm. Ottiger Fotografie Zug
Нельзя сказать, что публика страдала глухотой. И Климта заваливали заказами, и Дягилев перед войной дважды привозил в Вену «Русские балеты»: успех был громкий. Max Graf (1873 – 1958), многолетний сотрудник Wiener Allgemeine Zeitung, в одной из рецензий писал, что зрителей не остановила высокая цена билетов. За билеты на балет, давно уже в Вене не модный, были готовы «платить словно за известнейшего оперного тенора или трели и арии колоратурной дивы. Русский балет стал знаменит как Карузо». Но мода – на этот раз пришедшая из Парижа и Лондона, - оказывалась не в силах побороть genius loci – довольно унылый дух места, которому только предстояло стать веселым и притягательным. Стоило 1918 году лишить жизни крупнейших мастеров венского – Климта, Шиле, Коломана Мозера, Отто Вагнера - как что-то неуловимо изменилось во всей атмосфере города, не только художественной. Да и вся страна, после поражения в первой мировой мучительно преобразовавшаяся из империи в республику, что-то потеряла в своем художественном сознании, порой легкомысленном, порой трагически серьезном.
В какой мере настроение города зависит от настроения живущих в нем художников? От их решения покинуть родину или остаться, от их ощущения себя если не кумиром, то хотя бы гражданином - или себя как парии? Кажется, политики не только преувеличивают свои возможности влиять на пути искусства, но и недооценивают возможность искусства предугадывать социальные катаклизмы. Политикам мерещится, будто законы искусства замкнуты на себя. Но они действуют и вовне. В итоге эстетическая революция оказывается связана с революцией политической, иногда ей наследуя, но чаще ее предвосхищая.
Выставка открыта до 6 февраля.
[1] Карл-Эмиль Шорске. Вена на рубеже веков. Спб.: Изд. им. Н.И.Новикова, 2001. С. 332.
