КОНСТАНТИН СУТЯГИН: В рубрике «Русские вопросы» мы продолжаем опрашивать умных людей про незаметные вещи, которые и составляют основу жизни (КРАСОТА, ВЕЛИКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ВРЕМЯ и т.д.). Сейчас интересует «место», среда обитания.
Мир «остывает». Мы щелкаем его фотоаппаратом, записываем на диктофон, чтобы «потом» все рассмотреть внимательнее – переведя в цифровой вид (так почему-то лучше воспринимается, спокойней, не нужно в нем участвовать – только любоваться). Мир превращается в фотомодель на подиуме, равнодушно и эффектно улыбающуюся никому.
Мир больше «не хочет» нам нравиться.
Не хочет улыбаться именно нам – только вообще, «в камеру». Ничего личного.
...
Сейчас в Питере, в Русском музее идет выставка А. Куинджи, начинавшего, как ретушер (была такая специальная профессия, когда человек делал фотографии контрастней), да так на всю жизнь и сохранившего эту ретушерскую привычку: темное – подтемнять, а светлое – подсветлять, как и положено на фотографиях, для четкости. (ПОСМОТРЕТЬ ) Он сделал ставку на «прием» и выиграл – на его картины покупатели в очереди стояли, месяцами. Техника в самом предельном, непристойном виде, когда человек просто любуется своим методом, не прячет его – так дорогой компьютер становится украшением интерьера.
Другая крайность – когда украшением интерьера становится дорогая икона. Тоже неприлично, когда художника в чистом виде волнует «ЧТО рисовать», дескать, посмотрите, какие мысли меня занимают (один из вариантов «Явления Христа народу» Александра Иванова в соседнем зале. А на портрет Гоголя пожалел кусок холста – дескать, «на ГЛАВНОЕ не хватает, много вас тут», и нарисовал единственный прижизненный портрет Николая Васильевича (прекрасный!) на картоне размером в ладошку (ПОСМОТРЕТЬ). Так вот, оба они - приезжие, и Куинджи, и Иванов. Не в смысле Питера-Италии, они по жизни приезжие, которые не хотят втыкаться в свой мир: один – «выше» этого, другой – «ниже».
Техника, или цель... Похоже, что сегодня самым принципиальным у художников становится вопрос «ЗАЧЕМ», для чего художник пишет картину, зачем мы вообще что-то делаем (ставим в дом компьютер, икону) – это и есть самое интересное.
...
Шел на днях по Чистым прудам – смотрю, скворечники повесили, ну, типа, весна, как в старые добрые времена, встречаем перелетных птиц! Потом гляжу – что-то их больно много в одном месте, прямо на соседних деревьях развесили, штук тридцать. И то, чего по всему бульвару бегать-то? Поживут в гетто, пусть спасибо скажут, могли и этого не получить.
А потом пригляделся – как-то низко домики висят, птицы не будут в них яйца класть.
И тут, наконец, замечаю, что к каждому скворечнику табличка прикручена с рекламой, что-то типа радио «Серебряный дождь» и т.д. Сразу стало понятно, что птицы-то им на самом деле по барабану (примерно, как приезжие по фигу миграционным службам). А главное – отчитаться и создать себе репутацию добрых людей (как у соответствующих политиков). Вместо настоящего скворечника с птицами – знак, а главное – слушайте какого-нибудь Соловьева или голосуйте за левых или что-нибудь покупайте что ли.
...
Жизнь теряет объем, становясь плоской, как экран монитора (как картины Куинджи).
В детстве заберешься на крышу гаража и мир такой огромный-огромный... Сосед с ведром идет... в небе скворец летит в свой собственный отдельный скворечник... а внизу далеко - лужа, в которой плавают тополиные почки.
Объем, ощущение глубины и одновременно своего места в мире - вот, я здесь!
И как-то незаметно это уходит, страшно. Отсутствие объема – сосед поленился и вывалил мусор прямо у себя за забором. А чего далеко ходить?
«Я» сворачивается до границ забора, до внутренней стороны двери. Приезжие иногда становятся местными, а местные (хлопотно, нервы) чаще всего предпочитают быть приезжими. Пришел домой, закрыл дверь, включил компьютер – вот тут я местный: хоум-пейдж, «друзья» и скворечник.
Местный от приезжего отличается именно этим самым развитым чувством объема: вот я, вот - глубина, остальной мир… Для приезжего окружающий мир плоский, как цифровое фото.
Могила – яма 2м глубиной, 2м длиной и 70 см шириной. Объем, стремящийся к нулю. Смерть.
...
Старушка в скверике высыпала из сумки хлеба, птичек покормить. Принесла это специально с собой, может, каждый день этим занимается – хлеб лежит в спецпакетике. Крошки высыпала, пакетик аккуратно сложила и обратно в сумку. И все понятно, никакого «серебряного дождя» – взяла и автоматически включила в объем своей жизни птиц, небо. Кормит еще кто-нибудь в мире птичек? (На Сан-Марко в Венеции – это же просто для туристов развлечение – раз в жизни покормить-пофотографироваться с чудесными голубками!)
Навстречу идет девочка, в руке хот-дог. Интересно, когда она станет старушкой, будет она зачем-то тоже кормить голубей?
Здесь говорят Андрей Горохов, Геннадий Генераленко, Владислав Красновский, Екатерина Монастырская
Уже сказали
Николай Борисов, Сергей Сафонов, Лев Пирогов , Александр Флоренский
Как, по-твоему, отличаются ли произведения искусства по месту их создания?
Широко известны мифические места, связываемые с тем или иным художником.
Арль ван Гога, Ясная Поляна Толстого, Петербург Достоевского, Нью Йорк Уорхолла, Венеция Тинторетто... этот список очень длинный. Кажется, что за какого художника ни возьмись, обязательно всплывает его тесная привязанность к конкретному месту.
Но что это за «место» такое, сказать трудно.
Хорошо пейзажистам. Им кажется, что их картины или как минимум вдохновения заключены в пейзажах, смотри на них немутным взглядом, картины и польются сами собой. С этой точки зрения «место» - своего рода бесплатная выставка природных красот, которые пейзажист как ненасытный паразит готов бесконечно пожирать.
Даже и в случае непейзажистов иногда кажется, что в некоторых местах искусство разлито в воздухе. Париж, Нью Йорк, Лондон очевидны, но и есть и мелкие, но упорные примеры, Дюссельдорф, Кёльн, Берлин. Или Лейпциг с его «лейпцигской школой». Всё это бывшие или нынешние столицы искусств разного размера.
Вообще, молодое искусство стремится стать искусством столичным, стремится в метрополию. Старики, наоборот, из метрополии уносят ноги, у них уже внутри всё заскорузло. Это напряжение между искусством и крупным гордом важно для понимания того, что такое «место». Но опять же не ясно, что такое «крупный город». Скорее всего, это то место, где есть живая артистическая среда, где в непосредственном контакте друг с другом живут несколько художников, где есть поэты, театры, выставочные залы, богемные бары и рестораны. То есть не просто тусовка, но тусовка, спроектированная в городскую и социальную инфраструктуру, тусовка, опёршаяся на интерьер (и урбанистический пейзаж).
И тут, кстати, видно, почему сегодня Италия – не место искусства. Вот Неаполь, залив, Везувий, место умопомрачительное, промзоны, гетто, автодороги, стройки, и тут же – пинии, холмы, старые виллы, сады, море, скалы. Но пейзажист чувствует себя там как луноход на Луне. Потому что картины там никому не нужны, они вообще там не нужны, там искусства нет. И в принципе, это совсем неплохо, что нет искусства, но как быть художником в огромном пространстве вокруг Неаполя, представить себе трудно. Остаётся вариант самоизоляции.
Конечно, «место» связано с изоляцией. История многих художников – это история их замкнутости. Это тема меланхолии.
Согласен ли ты с тем, что место создания картины (книги, фильма) накладывает сильный отпечаток на результат, и при перемене места жительства может полностью поменяться замысел (и даже сам художник)? Например? Или же внешние обстоятельства не так важны?
У меня есть очень большие сомнения насчёт «замысла». Вот у меня хороший приятель решил недавно стать кинорежиссёром и задумал снимать road movie почему-то в Болгарии. Сейчас едет туда высматривать мотивы.
И где же его «место»?
Место его там, где появился его замысел, где воспитался его вкус, где сформировались его амбиции и его раздражённость. И там, где его зрители. То есть Германия.
Тут можно говорить, что «место» (Германия) наползает на и пытается поесть другое просто место - Болгарию.
Перемена места жительства – крайне травматический опыт, особенно для взрослого человека. Тут не то чтобы меняется замысел, но ломается сам человек. Известны истории переселений художников (поэтов, музыкантов) в США перед Второй мировой войной. Это истории катастроф. Тут не перемена места, но изменение «места искусства», то есть трансплантация в другую историю искусств, в иной культурный поток.
С одной стороны, это крайне отрезвляющий опыт – увидеть, что твои московские, парижские или венские мировоззрения и убеждённости были фантазмами, не лишёнными обсессивности, и универсального значения вовсе не имеют. Ты вовсе не находился в центре мира, чувство центра мироздания – это иллюзия, провоцируемая метрополией.
Но с другой стороны, повторяю, это катастрофа.
Есть тома стихов венских поэтов в изгнании. Странное ощущение производят эти стихи. На родине поэты демонстрировали крайнюю чувствительность к мелким состояниям души. Кажется, что поэт – он вообще всё понимает. Он замечает даже то, чего фактически и нет. А поэт в эмиграции вдруг перестаёт понимать очевидное. У него вдруг не находится слов для элементарного состояния, в котором он оказался – одиночества, бессмыслия, беспочвенности. Стихи выглядят как куски стенгазеты, их читать неинтересно, поэтическая материя из них улетучивается. Видно, что человек влип, и всё. Хотя, казалось бы, поэт наконец-то на своей шкуре почувствовал, каково оно – быть обычным человеком на обычном месте.
Потому у меня большое недоверие к художникам на своём «месте», они похожи на пригревшихся канареек. Самые радикальные художники – всё равно канарейки.
Я думаю, что это и есть ответ на вопрос, зачем надо становиться художником? Чтобы пригреться на мифическом «месте искусства».
...
Надеюсь, что понятно, о чём примерно идёт речь.
Как всегда, получился разговор ни о чём для детей.
К. С.: Очень хорошо, и вовсе не для детей, а кое-что и для взрослых (ну, если я достаточно взрослый). Конечно, "Трэш" - сильнее, но это и жанр другой.
А. Г.: Я рад, что текст пойдёт.
У вас с Пироговым получился интересный разговор про Чебурашку на стене.
И правильно Пирогов написал про нулевое состояние.
Чебурашка возможен в ситуации отсутствия искусства, вкуса, архитектуры. И именно в этом его ужас, и его очарование.
Проблемы искусства, его места, его возможности, проблемы людей, призванных искусством, мне очень небезразличны, но я понимаю, что моё небезразличие - это небезразличие маргинала к маргинальному.
Ну, как меня пугает покрытие неновых картин новым лаком, или освещение картин ярким пятном света на тёмной стене. Или вот проблема рамы - я до сих пор не могу смириться с наличием рамы, но мне неприятно и её вызывающее отсутствие. Или вот "проблема коллекционера"...
И неправильно отреставрированный дом или слишком геометричные края дорожки в парке или улицы - из того же ряда. Или, наоборот, слишком красиво, слишком дизайнерски высаженные деревья и кусты. Про себя я всё это называю "пейзажист в Италии": пейзажист-турист видит вокруг себя совсем не то, что там есть.
К. С.: Я вот что подумал, про то, что стоит только приехать в какую-нибудь новую столицу, чтоб понять, что отстал, и что находишься далеко не в центре мира. Это же всегда так будет, откуда бы ни приехал.
Вот, например приедет к нам в Москву какой-то английский художник, Дэмиэл Хёрст, идет вступать в МОСХ, а ему говорят – из какой такой деревни ты к нам приехал, чучело? Ты же рисовать не умеешь! Ну, разве что на молодежную выставку тебя возьмем, попробуем. Если он вдруг попытается стать по-настоящему местным – то хоть какую он там серьезную школу в Европе прошел – придется все забыть и начинать заново. Ходить на выставки местных знаменитостей, в местные музеи, шаг за шагом... А если он предпочтет остаться приезжим – то тут проще, он будет тусоваться в такой же интернациональной тусовке, ориентированной не на Москву, а на тот же самый Лондон, или Сан-Пауло, тут он может на местные порядки плевать и найдет таких, кому на это тоже плевать.
Я вот, иногда езжу за границу, делаю выставки, «Париж-Лодон» – так на меня там с таким удивлением смотрят все местные художники, как на эскимоса – дескать, во деревня! Ты же ничего не знаешь и не понимаешь, кого цитировать, над кем смеяться, о ком уважительно цокать, какие мейнстримы-тренды на дворе (так мы в Москве смотрим на какого-нибудь китайца, привезшего свои картинки нас удивить, да еще не го хуа, а что-нибудь, типа «московского сезаннизма» нам показывает). И если я пытаюсь стать в Париже местным – сразу же опускаюсь на сто ступенек и становлюсь в конец очереди, изучать новейшие журналы по искусству. А вот если я приезжий – то мне на это плевать. И, что самое интересное, мной тоже начинают больше интересоваться – как экзотическим русским. Но в любом случае я там – приблизительно ноль и точно маргинал.
А вот когда я возвращаюсь в Москву – то почему-то опять себя чувствую важным и нужным, чувствую себя серьезным художником. Местным.
Это я к тому, что если есть установка у человека – например, «москвоцентричен», то тут все нормально, и центр этот не выдуманный. Он реально существует, потому что в этом центре можно вполне нормально находиться, тут есть своя «инфраструктура центра». Во всяком случае, это не больше надумано, чем «лондоноцентричность», или «парижецентричность».
А вот если этой самой «центричности» в голове нет, то везде получаешься маргиналом. Если не хочешь стать местным.
В Лондоне – кажется, что в Нью-Йорке главнее, в Нью-Йорке – что в Китай нужно бежать, и т.д. Если центра просто не существует, то всюду кажется, что еще чего-то недобрал, и везде приезжий. Что, может быть, кстати, и не так плохо для художника, хотя и трагично. Что-то там у Цветаевой (эмигрантской), что все поэты на земле эмигранты Царства Божия...
Может, нужно задать себе какую-то «центричность», например, что Париж – это самое главное? Т.е., сначала уцепиться за место, прорасти, а потом уж и добиваться там всего-всего, не кося глазом в Лондон, постараться стать там местным – тогда, по-моему, есть шанс. Хотя больше всего шансов стать местным – в Москве.
Может, ты это имел в виду, когда писал, что художник – это маргинал, который интересуется маргинальными проблемами?
(Я, конечно, сильно упрощаю, опуская тебя на землю, в конкретную точку – но такой у нас закон жанра, извини).
А.Г.: Я не очень понимаю, о чём ты говоришь.
Судя по твоим словам, мир искусства устроен как мир деревни, в котором всё обозримо, есть устоявшиеся обычаи, все на виду.
А в реальной жизни "ему говорят" нет. Кто говорит? Все говорят от себя, а не от партии искусства, не от имени всемогущего института, комитета худбезопасности.
Если тебе от них что-то нужно, если ты пытаешься добиться выставки или публикации, то есть навязываешься, предлагаешь себя как не очень нужный товар, то тебе приходится ходить по инстанциям, превращаться в жалобщика.
И тут ты прав - жалобщики, сумасшедшие изобретатели, они не местные. Не местные - в кабинетах, среди людей в пиджаках.
И насчёт "предпочтёт остаться прежним" или "начнут интересоваться как экзотическим русским" у меня большие сомнения. Художник, вообще человек, не может предпочесть остаться прежним или, наоборот, измениться. Как солдат в походе не может предпочесть не устать, остаться сытым, или, наоборот, измениться и полететь на крыльях. Каждый раз ты зажат в какие-то конкретные тиски, задвинут за какие-то заборы.
И, кстати, люди, которые могут "начать интересоваться экзотическим русским" - это и есть тиски и заборы. Невыносимо иметь дело с людьми, которые в этом сезоне на музыкальном фестивале интересуются композиторами из Ленинграда и не интересуются композиторами из Москвы, или тем более из Софии или Буэнос-Айреса (потому что неформальный девиз фестиваля - Рейн сливается с Невой). Это жандармы. Может быть, это и есть то, что ты называешь "приземлением", но для меня это заботы человека, желающего пристроить своё детище неважно как и кому. Заботы мелкого кустарного производителя, огородника. Который как раз и напирает на то, что он местный, а его морковка - такая как прежде.
Эта самая "экзотичность русского художника" как раз и состоит в том, что он эту ущербную ситуацию в упор не видит, не видит, с кем имеет дело, и пытается вписаться и протиснуться.
Ну, конечно, пигмеи, которых везут на фестиваль уорлд мьюзик, не могут заартачиться и сказать, что они не экзотика, а серьёзные музыканты, их место - в филармонии или на фестивале современной музыки, авторы которой известны по именам и местожительство которых не имеет значения.
Что делать пигмеям? Я бы сказал - сжать зубы и не петь. Или петь для себя и своих.
К вопросу о месте, в котором искусство делается, эта ситуация имеет отношение лишь в том смысле, что она способна отбить - и реально отбивает у большого количества людей - всякое желание заниматься искусством и иметь к нему хоть какое-то отношение.
И как раз метрополия - это возможность выйти из-за забора крестьянского рынка или бюрократического кабинета, то есть из ситуации деревенско-офисного разбирательства и рассуждения. Из ситуации влипания. А то ты про Лондон-Париж пишешь как муха, которая видит впереди по курсу большую липучку. Девушки, грубо говоря, дают не за то, что ты экзотический русский, или совместимый с контемпоральным, или включён в фестивально-биеннальную обойму. Так и искусство даёт не по этим причинам.
Момент приезда вообще неважен. Как неважно, что думают о Лондоне-Париже издалека. В метрополии надо жить, надо жить метрополией. Это, собственно, единственная возможность.
- Почему ты живешь именно в этом городе? Если б была возможность уехал бы куда-нибудь на ПМЖ? Куда?
Всё. Мы приехали! Далее никуда ехать не желаю, ибо выдумать для себя места лучше я не смогу. Желаю здесь провести оставшийся мне век и упокоиться на местном кладбище, с которого открывается прекрасный вид на море, горы и всю долину.
Наверное из твоих корреспондентов, Костя, я единственный «поганус». Сельский житель (на языке латынян). Поганус, с недоверием относится к городу и всему что с ним связанно. А «идолище поганое» - просто сельский античный божок. Почувствуй разницу.
- Как ты относишься к местным? Как они к тебе? Чувствуешь ли ты вообще разницу между местным и приезжим? Внешне, в отношении? Зависит ли отношение к приезжим от их профессии, от чего-то еще - или важен сам факт, что они приехали из другого места? Наступает ли такой момент, когда различия между местными и приезжими исчезают?
Нормально всё. Хорошо относятся. Просто будь человеком. Переезжать всегда легче эскаваторщику или бульдозеристу, бухгалтерше. Открыл газету, требуется – позвонил, трудоустроился. Ты уже почти местный, в социуме вертишься. Повару хорошо. Горничной – нормально. Художнику сложнее – существо нежное, хрупкое и обременённое массой комплексов. Кому он нужен ныне, художник местный, пришлый? Верстальщик в газету – надобен, дизайнер в мебельный салон – иногда. А художественные росписи боголепные, али декоративные учинять и мозаики римския выделывать – не работодатель, а донатор требуется. Донатор имеет свои эстетические пристрастия - во вкусе заказчика работаешь – будет заказ, нет – не будет. Местный, не местный. Это только милиционер в паспорт заглядывает. В Москве я прожил три года. Сделал несколько стенных росписей, книг оформил две дюжины, печатался в журналах, выставлялся много, в международный художественный фонд приняли, в национальную секцию по детской книге при фонде культуры РФ - всё по-сиротски, без прописки, без регистрации. Ничего обошёлся.
- Согласен ли ты с тем, что при перемене места жительства меняется и сам человек (художник)? Например? Ты - меняешься? Или же внешние обстоятельства не так важны?
- Я меняюсь. Много времени провожу на свежем воздухе. Пагуба современного мегаполиса особенно видна из сельского Причерноморья. Местность и образ жизни, рацион питания, словом всё располагает к размышлениям о вечности и античности. Живопись стала немного другой, хотя осталась моей же. Печём пироги, научился приготовлять красное игристое вино. Если бы я теперь имел небольшую, стабильную ренту, то был бы совершенно счастлив.
- Сохраняется для тебя по-прежнему понятие ПМЖ? Есть ли какой-то смысл, считать место "своим"? Какие основания? Не все ли равно, где жить, в каком городе, в какой стране? Обладают ли места, где мы живем, какой-то неэкономической притягательностью, или все дело в зарплате и климате?
ПМЖ – не люблю этого выражения. Казёнщина, робот придумал. Некоторые жители интернета считают даже странички на общедоступных сайтах – а-ля ЖЖ или одноклассники – своими. Своё… Школа… Подьезд… Метро… - аж мороз по коже. Какой же он свой подьезд, если в оном (пардон муа) насрали чужие кошки и таджик сидит на вахте, глазами зыркает.
В своём дворе я сделал детям песочницу, поставил качели, рассадил несколько сотен тюльпанов и нарциссов. Это своё. На дикое поле, у подножья горы в этот год стал высаживать молодую поросль вишни, – а вдруг примется, вишня какая ни есть, может приживётся, мальчишки какие-нибудь покушают, прохожие, птицы.
Будь моя воля – заставил бы снова сады заводить, насильно и жестоко насаждать виноградники, тиранскими методами. Чтобы было яблоко своё, слива, абрикос. Чтобы каждому ребенку в день стакан сока. Вишневый сад чеховский, помнишь? Фирс говорил: «Раньше вишню сушили, отправляли возами в город».
Какой к лешему климат! Какое неэкономическое притягательство? Глупости, это.
Работать в своей массе сограждане не хотят, не умеют и не видят в этом практической надобности. Сколько им ни плати.
- Есть мнение, что патриотизм - это последнее прибежище негодяя. Согласен ты с этим или нет? Почему?
Не согласен. Потому как Патрио, Отечество, Батьковщина, Фатерланд – это то самое ПМЖ. А патриотизм – естественная любовь человека к своей земле, к березкам, лощинам, кусту ракиты на рекой. И защищать вот это патрио от разных сволочей надобно, пусть даже с помощью кулацкого обреза.
Мнение ложно, ибо последнее прибежище всех негодяев - власть.
- А ты там у себя с какими-то художниками знаешься? Нужно тебе это? Нет желания с кем-то поговорить на культурные темы, кому-то показать свои работы, новых арт впечатлений прихватить - не нужно? Не тоскуешь по арт-тусовке?
Тосковать по арт-тусовке – не тоскую, как-то не до этого. Повидал бы с удовольствием нескольких человек, есть с кем треснуть по 150 и потрепаться пару часиков о прекрасном. Иногда с кем-то переговариваюсь по телефону, интернет опять же. На интернетных форумах бываю – о красивом говорим до мордобития виртуального. Работы показываю раз в год, когда зовут из клуба и надобно отчитаться за сельскую культур-мультур. За день управляемся, и это отбивает у меня охоту к просветительству и выставлению примерно на год. Галерейщики самодеятельные в большей части вызывают у меня омерзение, т.к. в своей массе искусство не любят, не понимают и занимаются продажами живописи по прихоти судьбы, не зная того, что им доходнее было бы торговать бананами. С местными антикварами разговариваю часто – широко образованные или готовые учиться люди, благо их немного в округе. Арт-впечатления – на гору залез - такой знаете импрессион, с горы! Миндаль вот зацвел. Иной раз книжку перелистаешь (у меня много книжек, нажил) и что-то новое торкнет, сразу незамеченное.
- Ну а денег хватает? Есть возможность заниматься творчеством? Хоть на сколько-то удается в деревне покрывать бюджет за счет искусства? (Понятно, что тут планировать продажи невозможно, «чем случайней – тем вернее», но все-таки, поделись предыдущим опытом).
Денег-то нужно всяко больше, чем есть. Гостевой домик отремонтировать надыть, крышу перекрыть хорошо бы, шланг поливальный новый купить, штаны, тапки, разное.
В селе ничего из искусства не продается, да я и не пробовал. Заказы на дизайн помещений и росписи – были. Хотя людям чаще требуется не дизайнер, а консультант-психотерапевт, чтобы подтвердил их соображения или супругу образумил. Через интернет – нет, нет, а глядь, кто-нибудь лист графики или малюсенькую картиночку купит. То за статейку гонорар выпадет. Брошюрка моя продаётся, опять же скоро новая выйдет. Прикупишь пуд муки али сахара мешок - хорошо. Так что при переезде в деревню надо чтобы был интернет всенепременнейше и почтовое отделение. Ну и до города чтобы было недалеко. Место жительства нужно выбирать очень тщательно, от этого жизнь зависит. Будет совсем хреново – сяду на набережной этюды морские отдыхающим торговать, Христа ради. Этого у нас не отнять, хоть стреляй, хоть вешай. А ещё лучше хомяка завести, билеты со счастием тянуть. Я было стал гуся растить вместо хомяка – думал, будет поддержка семье, а не вышло. Гусь что-то захворал, пришлось птицу убить топором и сьесть. Нострадамусом звали.
Возможность живописать – есть, это сколько угодно. Есть студия светлая в бельэтаже, вечером за столом графикой побалуешься. Можно с этюдником пробежаться по окрестностям. Принадлежности для живописи покупаю в Анапе или выписываю через интернет. Так и живу.
(Познакомился я в Париже с одним коллекционером и, любопытный человек, спросил его: а зачем вы картины покупаете? Все разные, внятного стиля у вашей коллекции нет... Так вот он ответил: я, не коллекцию собираю, а финансирую возможность другого образа жизни, отличного от моего и всех моих знакомых. Образ жизни художника – это же прекрасно! Жаль, если все будут ходить на службу. Поэтому иногда что-то покупаю.
Понятно, к чему я? Нужно набрать www.molotok.ru и дальше слово «Генераленко» или ТАК
Цены от 500 рублей, на хлеб и на гвозди. – К.С.)
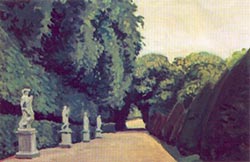
Кажется, кроме Дягилева и С никому из русских не удавалось покорить Париж. Однако и в этом случае не получилось «красоту» этого феерического восторга конвертировать в «экономическую выгоду». А.Н. Бенуа делился, как на волне русофильского театрального энтузиазма директор Люксембургского музея предложил купить несколько его работ. «Цены были унизительно низки! – вспоминает Бенуа. - Было стыдно и за себя и за него. Мы с ним были на короткой ноге уже несколько лет». Рассматривая этот случай из своего далека, думаю, что директор в то время погорячился, предлагая не сильно одаренному акварелисту-самоучке место в одном из важных художественных музеев Франции. Но стыд его понятен, так же как и бесстыдно высокие цены, отдаваемые за его почеркушки на нынешних аукционах русского искусства.
В ХIX в. русские художники ездили не покорять Париж, а покоряться им, т.е., лелеять свой комплекс художественной неполноценности, внушенный им Академией и т.н. передовой общественностью с поразительно неразвитым вкусом. Из писем видно, что они, будучи за границей, не особенно-то и стремились продавать свои работы.

Правда, был один отщепенец – Орест Адамович Кипренский, который таки поставил себе эту честолюбивую цель – покорить! Он настолько был уверен в успехе, что, потерпев полное фиаско на Парижском Салоне 1822 г., похоже, слегка повредился разумом. Стал злобным франкофобом, писал: «В Париже весело жить, там совсем не разумеют изящных художеств, а только любят девок, поваров и театры, да еще ничем не занимаются, кроме туалета». В сердцах восклицал: «Я бы лучше выбрал 12 тысяч годового доходу жить в Риме, нежели два миллиона жалования, чтобы жить в Париже». Откуда, кстати, можно судить о количественной стороне его притязаний. В конце концов, la belle France не отплатила ему той же монетой. В постоянной экспозиции Лувра – одна или две его картины (если не убрали), а там всего-то, кажется, три или четыре русских имени.
Бывали среди русских художников, которые добровольно уезжали из Парижа, не отбыв и половины пенсионерского срока: Василий Григорьевич Перов, Борис Михайлович Кустодиев.
Юра Купер на мой вопрос:
- Ты где сейчас, здесь или в Нью-Йорке?
- В Москве, старик!
- Что так?
- Так там же жизнь, а здесь что?!
Каждый кулик хвалит то болото, где хорошо кормится?
Справедливости ради стоит вспомнить и других людей. « И угораздило же меня с моим умом и талантом родиться в такой стране как Россия!»
Кстати, Александр Сергеевич был гением, какого места? Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова?
Когда-то мне хотелось жить в Пскове. Потом казалось, что Дубровник – это то место, где стоит провести остаток жизни. Сердце успокоилось Парижем. Хоть я и не могу сказать, что это праздник, который всегда с тобой. Во времена этого романтика мужской аскезы ещё не водились обормоты, срывающие скатерть с празднично накрытого стола.
"Вопрос места" - самый интересный, глубокий, даже интимный вопрос в моей жизни. Потому что мне довелось на собственной шкуре испытать, и пережить, причем многократно, радикальную перемену мест.
К стране, в которой живу, испытываю настолько трепетную и в некотором роде безответную любовь, что говорить об этом хочется патетически, что смешно и неудобно перед людьми.
Мне всегда было интересно пожить в другом мире, среди другого языка и культуры, хотя культура Этой Страны - ничуть не "другая", она - родная всем мало-мальски образованным людям планеты, не говоря о художниках и поэтах. Ведь "Джоконда" или сонеты Петрарки - не чья-то там "национальная" культура, но универсальная, всем-всем-всем принадлежащая.
Флоренция - удивительный город. Вряд ли что-то подобное есть в мире. История искусства на каждом шагу, дух захватывает.
Я там прожила год, и скажу, что большего творческого кризиса и бессилия со мною не случалось ни до, ни после. Меня парализовало. Приходилось постоянно сравнивать себя с тем, что вокруг - и находило онемение, отупение и все валилось из рук. Как быть, когда рядом - такое... Огромное, бездонное, высокое, великое. "Синдром Стендаля?"
Местному все это - полная повседневность - он здесь вырос, и на всей этой красе лежит оттенок банальной обыденности. Местный воспрнимает набережную Арно и купол Брунеллески как какое-нибудь Бирюлево его коренной житель. Да, здесь - хорошее мороженное. Там - пекут вкусные булочки... Вот и все. Делов-то.
Наверное, в такие Флоренции лучше ездить туристом, набираться вдохновения, и - домой скорей, пока не остыло!
В "сером промышленном" городе Милане - все было по другому. Это - моя родная среда, где есть метро, толпы, спешащие на службу, высокие дома, архитектурный хаос города, на 60% разбомбленного во время Второй Мировой. Здесь проблем с рисованием или сочинением не возникло ни разу, и я поняла, что от природы не уйдешь. Это - кто где родился. Деревенскому жителю большой город всегда будет чужим, а горожанин в деревне или маленьком городке завянет, среди пустой природы и абсолютно чуждых человеческих взаимо-отношений.
В деревне городскому человеку не выжить, если он конечно, не богач и не купил себе виллу на холме. Он останется чужаком, вторгшимся в отлаженную систему связей, отношений. Незваным гостем в чужой семье.
"Ассимилироваться" (буквальный перевод - "стать подобным") в большом городе, особенно если вы горожанин, намного проще, здесь и так, как в Ноевом Ковчеге - "каждой твари по паре" и по большому счету никому ни до кого нет дела. К тому же у вас в крови урбанистическое отношение к публичному пространству, вы плывете в толпе, как рыба в воде, вы в своей стихии, вы дома.
Деревенскому жителю в большом городе - туго. Мигранты (как правило - горожане в первом поколении) всегда живут кучно, общинно. Украинская деревня в Милане. Или Перуанская. Или стойбище бедуинов. Люди держатся вместе в силу общих корней и так же из страха перед враждебной средой мегаполиса. Во втором поколении они станут местными, если, конечно, не геттизируются - отчасти по своей воле, отчасти - по воле "мультикультурного и толлерантного" общества, в котором каждый имеет право "быть собой" настолько, что общность людей города может исчезнуть, разбившись внутри на тысячи хуторов, кишлаков и стойбищ.
Так же и с художниками. Не понимаю, почему современное понятие о культурной идентичности навязывает тебе навсегда твою национальную культуру. Если ты мексиканец - будь добр, нам Сикейроса с Фридой Кало, если американец - то из поп-арта уже не вывернешься, как ни крутись, если немец - то почему не экспрессионист, если русский - то нам иконы или абстракную живопись а-ля Малевич-Кандинский, пожалуйста, если африканец - чего-нибудь поярче, итд... Гетто. Колючая проволока и оцепление с овчарками. Будь собой. А мы будем собой.
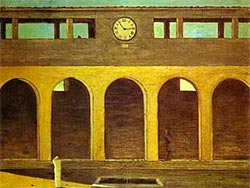
Собой - это кем? Кстати, о местных. Не знаю, может быть, европейская культура с приходом концептуального искусства и утратой критерия себя исчерпала, и местные художники вдохновляются кем и чем угодно - от русской иконы и поп-арта до барельефов Майя и индийских узоров, любой "экзотикой". Рвутся в какое-нибудь гетто. А вот своего великого художника из современных - Джорджо де Кирико почему-то в голос ненавидят. Парадокс. Еще меня удивляет стойкий культ Караваджо. Великий живописец, но отчего-то именно он затмил всех остальных. И много такого, чему не могу найти объяснения. Да и местные тоже.
Местные любят богатых приезжих и не любят бедных. Как и везде. К американцу (туристу или бизнесмену, выходцу из богатой страны) в Италии относятся подобострастно. К маррокканцу или румыну (уроженцам бедных, гастарбайтерам - презрительно и настороженно). Отношение к русским меня поражает - уважают (особенно в последнее время, когда "наши" заметно разбогатели)... "О, ваша великая культура! Чайковский! Балет! А писатели! Толстой! Достоевский! А живописцы! Кандинский! (страшно популярен) А русский бас Шаляпин! А "Доктор Дзиваго!" Я всегда удивляюсь этой любви к русской культуре и знанию имен.
Вспоминается пословица про человека и место, кто кого красит. Место, конечно, окрашивает, но не настолько.
Важнее всего - внутренние состояния, ощущения, предчувствия.
Мне кажется, что, даже самая резкая перемена мест не может оказать на творчество той перемены, которую могут произвести глубокие душевные потрясения, меняющие личность. Любовь. Смерть. Выбор. Может измениться колорит и манера письма, как у Шагала. Воздух, свет и архитектурная среда оказывают, конечно, большое влияние, но вряд ли это может изменить темперамент, почерк живописца, внутреннюю суть его творчества.
Многие русские писатели в 19-м веке создавали свои романы за границей . Живописцы всегда передвигались и творили в разных местах. Говоря об Италии даже - Флоренция, Рим, Венеция, Неаполь, Сицилия - это разные миры, куда более отличные друг от друга, нежели современные мегаполисы Москва и Милан.
Думаю, что любому человеку важно пожить в другом месте, в другой стране. Испытать не просто перемещение в пространстве, но узнать других, самому побыть другим, чужим, меньшинством, чтобы понять себя.
Самое главное для художника и писателя - быть реализованным. Где, как - неважно. Кому-то нужна дымка тумана над родными полями, кому-то - жгучее солнце пустыни, кому-то шум большого города за окном. Для кого-то - это признание, популярность и хорошие деньги, для кого-то - уловить и воссоздать увиденное в прекрасном сне. Ведь рванул голландский живописец-самоучка на юг Франции, в Арль. И сделал там Ван Гога...
