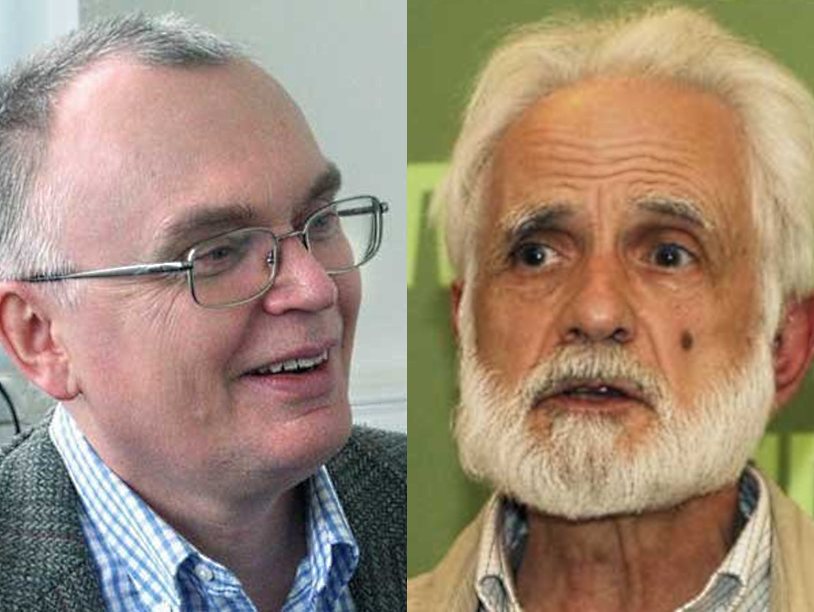Для России Европа – это и исторический сосед, и часть собственной идентичности (Петербург – ярко выраженный европейский город), и образец для подражания, и объект фобий. Такая противоречивая ситуация была свойственна различным этапам отечественной истории. На ее современном этапе можно выделить несколько принципиальных особенностей, отличающих Россию от Европы. Это слабость институтов, иное понимание демократии и существенные различия в характере транзита от авторитарного социализма к рыночной экономике. Все эти особенности имеют серьезные исторические корни, которые оказывают влияние на национальный менталитет.
Единственным сильным и авторитетным российским институтом является президентство, носящее практически монархический характер, что несвойственно послевоенной европейской политической традиции. Даже во Франции периода Пятой республики с ее «суперпрезидентством» возможности главы государства резко ограничиваются в том случае, если большинство в парламенте получает оппозиция, и он вынужден «сосуществовать» с премьером-оппонентом (Миттеран и Ширак в 80-е годы, Ширак и Жоспен в 90-е). В самое последнее время в России, впрочем, ситуация несколько меняется ввиду отказа Владимира Путина изменить Конституцию, чтобы баллотироваться на третий срок. Но и возможная трансформация президентской республики в президентско-премьерскую вряд ли усилит роль парламента, который остается зависимым учреждением (можно будет говорить лишь об увеличении зависимости от премьера и, в связи с этим, о некотором снижении – от президента). Но премьер-министр по-прежнему не будет являться реальным выдвиженцем парламентского большинства – напротив, именно это большинство полностью обязано ему своим успехом на парламентских выборах и является лишь «группой поддержки» самого влиятельного политика страны.
Можно много говорить о причинах слабости российского парламентаризма по сравнению с западным. Здесь и недостаточная укорененность в российской истории. Появление законодательного органа – «протопарламента» в виде Земских соборов начала XVII века и Государственной думы, образованной в соответствие с царским манифестом 17 октября 1905 года – связано со смутными временами в жизни страны, когда влияние государевой власти резко ослабевало. Просуществовавшее всего один день в январе 1918 года Учредительное собрание больше напоминало леворадикальный митинг, чем парламент, причем доминировавшие в нем эсеры были не больше приспособлены к цивилизованному законотворчеству, чем разогнавшие это учреждение большевики. Напрашивается аналогия и с перестроечными годами (конец 1980-х – начало 1990-х), когда на короткое время союзный, а затем и российский парламент стали одним из важнейших факторов государственной жизни. Однако первый скончался вместе с Союзом, оставшись в памяти россиян как большой, но неэффективный «митинг». Второй просуществовал несколько дольше и был разогнан президентом в ситуации, когда страна оказалась на грани гражданской войны. Нынешняя Государственная дума, как уже отмечалось, политически слаба и находится в зависимости от исполнительной власти, оформляя с помощью голосования ее решения.
Значительную роль играет и особая роль правящей бюрократии во все времена, вне зависимости от того, как назывались конкретные бюрократы – дьяками, министрами или народными комиссарами, а также восприятие азиатской деспотической традиции, которая была явно заимствована с Востока – вначале у монголов, а затем у турок. Эффективная государственность ранней Османской империи, уничтожившей Византию – Второй Рим – была устрашающим, но, одновременно, весьма привлекательным образцом как для государей, так и для многих их поданных, желающих сильной и стабильной власти.
Сыграло свою роль и отсутствие в средневековой Руси, равно как и России нового времени, эффективных противовесов государевой власти, крайне низкой степени плюрализации государственной жизни. Да, Варфоломеевская ночь была не менее кровавым деянием, чем Опричнина – в этом правы те, кто отвергает противопоставление «варварской Руси» «цивилизованному Западу». Проблема в другом. Когда в Париже убивали гугенотов, губернатор французской провинции имел возможность выбирать: он мог как принять к исполнению руководящие указания, так и не подчиниться «официальному курсу», провозгласив на своей территории веротерпимость. В России воля царя была безусловным законом «от Москвы до самых до окраин», даже если государь вел себя явно неадекватно. Шведский король Эрик XIV был не меньшим деспотом и психопатом, чем его современник Иван Грозный, но первого быстро свергли и отправили доживать свои дни в заточение, а второй мог творить зло до самой смерти. Не было на Руси ни феодальных замков – символов автономии их владельцев от центральной власти, ни (после разгрома Новгорода и Пскова) вольных городов. Не было и вненационального органа, стоящего выше монархов, к которому можно было апеллировать за защитой – каковым на Западе являлось папство. Английский монарх Генрих II мог быть вовлечен в убийство архиепископа Томаса Бекета (хотя и косвенно), но после этого ему пришлось склониться перед папским судом. В то же время Иван Грозный безнаказанно расправился с митрополитом Филиппом, а русская церковь смогла ему ответить лишь спустя много лет после смерти царя, причислив мученика к лику святых.
Точно так же в России слабы и судебная система (она обладала действительно высокой степенью независимости лишь в течение полувека перед приходом к власти большевиков, но этот опыт был перечеркнут революцией и смутой), и средства массовой информации. Особенностью российской истории является и отсутствие гражданского общества – сложной системы горизонтальных коммуникативных связей, которые на Западе уравновешивают индивидуализм отдельных граждан. Если в европейских странах гражданское общество формировалось из средневековых сословий и корпораций, то в России такой основы не было. А если нет корпораций, то нет и опыта эффективной защиты перед государством. Если нет полноценных сословий, нет и их длительной борьбы за политическое представительство.
Отметим, что политическая демократия для россиян важна лишь постольку, поскольку она может дать им реальные материальные выгоды, а не обеспечить выглядящие для них абстрактными свободы. Вспомним конец 1980-х годов – тогда население приветствовало свободные выборы, рассчитывая, что именно благодаря ним к власти придут люди, которые накажут воров и взяточников и смогут решить социально-экономические проблемы, оттеснив старых некомпетентных бюрократов. В этом отношении показателен феномен Бориса Ельцина – он смог победить, синтезировав демократические и популистские лозунги, причем, по крайней мере, на первых порах, в его риторике явно преобладал популизм, связанный, в первую очередь, с борьбой с привилегиями, позволявшими номенклатуре жить на уровне западного среднего класса.
Выборы не были исключением из правила. Свобода слова воспринималась как средство для разоблачения все тех же воров и взяточников, а также как возможность обсуждения разных вариантов решения стоящих перед страной проблем, чтобы в условиях плюрализма выбрать единственно верный. Свобода совести – как предоставление свободы православной церкви, являющейся государственно ориентированной и патриотической структурой, которая лучше, чем парткомы, может заниматься морально-нравственным воспитанием граждан. Свобода митингов и собраний – как возможность сказать с трибуны громкое и публичное «фэ» дискредитировавшей себя власти.
Можно сказать, что демократия оказывается востребованной россиянами как инструмент воздействия на власть в случае нарушения последней неофициального контракта, заключенного с обществом. Этот контракт означает способность государства обеспечивать достаточно приемлемый уровень жизни для большинства населения, своевременную выплату пенсий и зарплат. Также он заключается в реальной возможности планировать свою жизнь если не на долгосрочную, то хотя бы на среднесрочную перспективу. Иными словами, контракт носит сугубо социально-экономический характер, не затрагивая напрямую политических факторов: таким образом, он принципиально отличается от классического «общественного договора». Политическая составляющая в отношениях между властью и населением в полной мере проявляется лишь в случае невыполнения контракта.
В советское время контракт был вынужденно разорван государством во второй половине 80-х годов, когда резко упавшие нефтяные цены и перенапряжение, вызванное гонкой вооружений, подорвали экономику «второй сверхдержавы». Эта ситуация и привела к востребованности демократических инструментов и росту политической активности граждан. В этот период в России произошло складывание реальных представительных институтов власти вместо имитационного органа, каковым был Верховный совет СССР, собиравшийся на несколько дней в году и единогласно одобрявший все решения партийного руководства. Оказались востребованы полусвободные (с «фильтром» в виде окружных предвыборных собраний) выборы в союзный парламент и свободные (без этого «фильтра») – в парламент российский. На время перипетии парламентской борьбы оказались в центре общественного внимания, а наиболее яркие ораторы стали общеизвестными фигурами (аналогичная тенденция была и в дореволюционной Думе, когда газетные отчеты заменяли телевизионные трансляции). В то время существенно повысился авторитет законодательной власти. Но даже в такой ситуации население, хотя и без особого энтузиазма, предпочитало в кризисной ситуации столкновения интересов президента, как сильного единоличного лидера, а не парламент (как это было в 1993 году).
Действие контракта было восстановлено в начале нынешнего столетия, при Владимире Путине. Можно долго спорить, какую роль в этом сыграл фактор высоких нефтяных цен, а какую – разумная макроэкономическая политика правительства (представляется, что все же первичны цены). Но абсолютному большинству россиян все это малоинтересно – главное, что начали своевременно платить пенсии и зарплаты. Последующие годы показали, что стабильность сохраняется, а предпринятый один раз непродуманный с точки зрения социальной психологии эксперимент по «монетизации» льгот (2004-2005 годы) власть больше не повторяла. Соответственно, и население выполняет свою часть неписанного соглашения. Оно передоверило решение вопроса о следующем президенте нынешнему главе государства, с именем которого связано восстановление контракта. В таких условиях для самих избирателей значительно удобнее и комфортнее самим не рисковать, чтобы не допустить ошибку и не привести к власти очередного «нарушителя контракта».
Неудивительно, что в условиях «соблюдения контракта» население согласилось и с инициативами президентской власти, резко сокращающими количество политических партий, отменившими выборы по одномандатным округам на федеральном уровне. Людей мало интересуют политические дебаты, и отказ «Единой России» от участия в них не сокращает шансы «партии власти» на электоральный успех (что наглядно показала избирательные кампании 2003 и 2007 годов). Доминирование президентской власти над всеми властными «ветвями» (в том числе и законодательной), политическая слабость Государственной думы, которая, согласно широко известному афоризму, не является «местом для дискуссий», также воспринимается обществом в такой ситуации как нечто вполне естественное.
Ситуация может измениться в двух случаях. Первый – маловероятный – если исполнительная власть сознательно и добровольно в удобный для себя момент пойдет на самоограничение. Надо сказать, что таких примеров в российской истории еще не было – некоторое исключение представляет разве что эпоха Великих реформ XIX века, которая, однако, не могла бы состояться без краха казавшейся незыблемой политической системы Николая I.. Тогда власть согласилась на создание независимого, несменяемого суда – и уже вскоре после проведения судебной реформы Александр II, хотя и неохотно, но все же отказался от мысли нарушить собственный же закон и уволить в 1867 году сенатора Любощинского, выступившего с критической речью в Санкт-Петербургском губернском земском собрании (Сенат выполнял функции Верховного суда). Можно предположить, что, занимаясь ограничением влияния бюрократии, государь искренне не мог предположить, что добровольно сокращает собственные прерогативы, подкрепленные многовековой практикой – иначе вопрос об отставке сенатора вообще бы не встал. Однако вряд ли стоит ожидать такой наивности от современных государственных лидеров.
Второй случай – более вероятный – если изменение социально-экономической ситуации вызовет новый односторонний пересмотр контракта между государством и населением, и последнее вновь востребует демократические инструменты. Однако такой пересмотр под давлением «снизу» может носить драматический характер, в частности, из-за отсутствия цивилизованных процедур разрешения кризисов и сильной оппозиции, выдвигающей альтернативные варианты политического и экономического развития.
Остановимся на теме наиболее значимых отличий российского и центральноевропейского вариантов транзита от авторитарного социализма к рыночной экономике. Во-первых, в России, в отличие от Центральной и Восточной Европы, не было национально-освободительного, «антиимперского» этапа демократической революции — нам не от кого было освобождаться, тогда как Восточная Европа освобождалась от СССР, который отождествляла с Россией. То же самое, кстати, относится и к ряду стран нынешнего СНГ. В ходе этого этапа в качестве борцов против империи на политическую арену и вышли политики, которые затем явились адептами европейского пути развития своих стран. В России ситуация была иной. Политическая оппозиция советскому режиму выдвигала как популистские, так и либеральные лозунги (это мы уже отмечали на примере одного из самых ярких ее лидеров – Бориса Ельцина), но не могла апеллировать к национально-освободительной риторике, создававшей восточноевропейским политикам ареол защитников национальных интересов. В России эта риторика не могла быть использована – было неясно, от кого освобождаться. Не от самой же себя – ведь СССР был, по сути дела, псевдонимом Российской империи. Когда российские избиратели голосовали за демократов в конце 1980-х – начале 1990-х годов, они в абсолютном большинстве не имели в виду, что империя рухнет. Они голосовали за более честную, справедливую и человечную власть, а не за распад империи, не за уменьшение влияния страны на внешнеполитической арене.
Во-вторых, Центральная и Восточная Европа выбрала в качестве национальной цели европейскую ориентацию – этот выбор был основан и на консенсусе элит, и на мнении большинства общества. Но даже российские либералы, последовательные «западники» не считали идею европейской интеграции России актуальной во сколько-нибудь обозримой перспективе. Европа не хочет видеть Россию – слишком большую, амбициозную, своеобразную - в своих рядах, и в то же время сама Россия не очень хочет в Европу, так как это означает подчинение «ограничительным» правилам Евросоюза. А Россия всегда воспринимала себя как один из мировых центров влияния, со своей собственной самостью, наряду с Европой, а не в ее составе. Европейская идея, которую восточноевропейские либералы, социалисты и консерваторы смогли реализовывать на практике, для России является только идеологическим фактором, не имеющим практического воплощения, а по некоторым пунктам вызывающим даже существенное раздражение в обществе – среди них отмена смертной казни, лояльность по отношению к меньшинствам. Подобные настроения есть и в странах, уже интегрированных в Европу, но в России они имеют еще большее распространение.
Таким образом, российский транзит, сопровождаемый ростом «проимперских» настроений, представляет собой противоречивое явление, впрочем, не уникальное для истории страны. Вспомним еще раз опыт безусловно либеральных Великих реформ 60-х годов XIX столетия, избавивших крестьянство от крепостной зависимости, введших суд присяжных, соответствовавший лучшим европейским образцам, учредивших местное самоуправление (земское и городское) и способствовавших более справедливому комплектованию армии. В ходе эти реформ абсолютное большинство российского общества выступило против польского восстания 1863 года, видя в нем покушение на территориальную целостность империи. Русские радикалы, сочувствовавшие восстанию, таким образом, оказались в политической и идейной изоляции (в связи с этим можно вспомнить резкое падение авторитета знаменитого «Колокола», издававшегося Герценом в эмиграции – он поддержал восстание). Даже в период либерализации общество не забывало об имперском чувстве, которое, безусловно, сохраняется и поныне.
Возникает закономерный вопрос – почему же в начале 90-х годов ХХ века российское общество относительно спокойно отреагировало на «мирный развод» республик бывшего СССР? Представляется, что свою роль в этом сыграло как резкое ухудшение социально-экономической ситуации (когда многим людям приходилось думать о выживании, а не о судьбе своей империи), так и психологическое ощущение «временности» происходящего, представление о том, что пройдет несколько лет и бывшие республики вновь объединятся, пусть на новых, более справедливых началах. Когда экономическая ситуация улучшилась и иллюзии начали проходить, выяснилось, что бывшие республики сформировались как независимые государства, и новые реалии приобрели стабильные очертания. Это не означает, разумеется, что имперские чувства исчезли – напротив, они усиливаются после политико-экономической «нормализации», но при этом приобретают все более ностальгический характер. Однако такая ностальгия также не способствует европейской ориентации современной России.
Подобный анализ, на первый взгляд, не оставляет современной России возможностей для европейского выбора. Однако не все так просто. Действительно, между Россией и Европой существует множество противоречий, которые не подлежат быстрому разрешению. Но некоторые обнадеживающие симптомы есть.
Вначале отметим высокую степень открытости российского общества, беспрецедентную по сравнению с любыми другими периодами истории. В XVIII – начале ХХ веков возможностью свободного выезда на Запад, приобщения к его культуре пользовалась лишь незначительная часть населения страны (пусть и наиболее «продвинутая», но безнадежно оторванная от абсолютного большинства соотечественников), а для основной массы населения эта тема выглядела сугубо теоретической. Сейчас миллионы россиян ежегодно выезжают за границу (с различными целями – от образовательных до туристических), что способствует ломке негативных стереотипов, большему взаимопониманию с жителями других стран. Кроме того, мир становится все более глобальным, в том числе с помощью мобильной связи, спутникового телевидения и Интернета, что также способствует обмену идеями, взаимопониманию и диалогу.
Можно назвать и расширение экономических связей между Россией и Европой, рост европейских инвестиций в российскую экономику в последние годы, когда увеличение ВВП и политическая стабилизация сделали страну более привлекательной для инвесторов, чем ранее. Продолжаются культурные связи между народами, которые сохраняются на высоком уровне даже в ситуации идеологического «похолодания» - вспомним недавнюю премьеру фильма «Катынь» Анджея Вайды в Москве, выявившую глубину симпатий значительной части российского общества к польской культуре и ее выдающемуся представителю – несмотря на осложнение отношений между двумя странами в последние годы.
Отметим также сохраняющуюся высокую степень привлекательности «европейской модели» развития, сочетающей современную рыночную экономику и высокую степень социальной защиты населения. Более того, Европа остается респектабельным ориентиром даже для тех групп российского общества, которые настроены антилиберально и, по сути, антиевропейски. Так, сторонники усиления влияния православной церкви на государственные дела часто приводят в пример британского монарха, официально возглавляющего англиканскую церковь. А противники сексуальных меньшинств апеллируют не только к национальным традициям России, но и к запрету гей-парада в Варшаве ее тогдашним мэром Лехом Качиньским. Апелляция к опыту Европы со стороны различных – часто идейно непримиримых - политических сил доказывает, кстати, что в России нет ярко выраженной антиевропейской ангажированности (основным аллергеном для российского общества на международной арене являются США, что неудивительно после войн в Югославии и Ираке).
Таким образом, европейский выбор России имеет под собой определенные существенные основания, несмотря на нелиберальные исторические традиции. Другое дело, что речь идет о длительном эволюционном процессе, который может сопровождаться не только достижениями, но и досадными срывами. Однако этот процесс все равно имеет перспективы, зависящие в значительной степени от политической воли и граждан России, и европейских государств и обществ.
Статья подготовлена на основе выступления на открытии конференции «Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej w XX i XXI wieku» в университете Николая Коперника (Торунь, Польша) 12 апреля 2008 года.