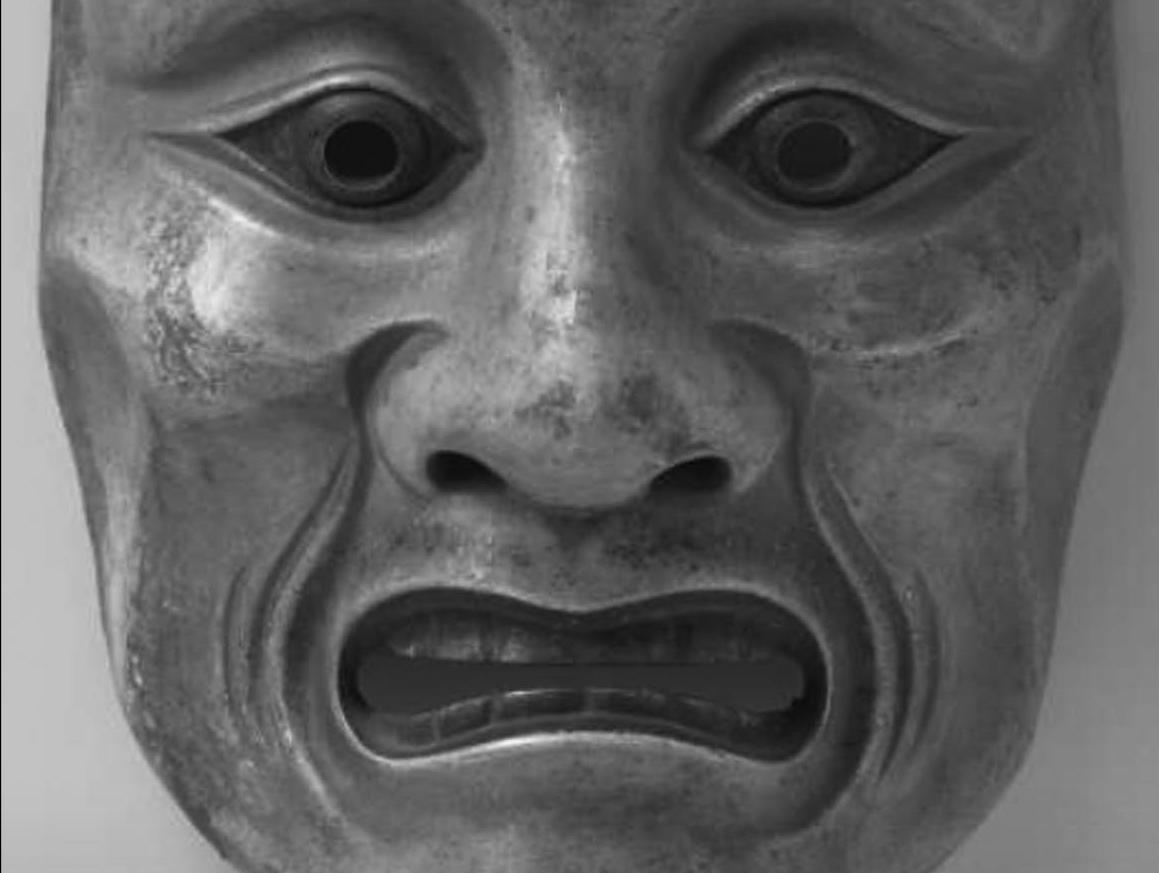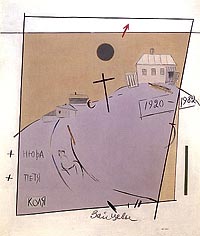
Неблагоприятные показатели смертности в России — следствие того, что у нас недостаточно далеко продвинулся процесс установления контроля над многими преимущественно экзогенными причинами смерти. Общая структура причин смерти остается во многом архаичной, и это проявляется в двух ее неблагоприятных особенностях.
Существует связь между причинами и возрастом смерти: от одних причин смерть наступает, в среднем, в более ранних возрастах, от других — в боле поздних. В частности, в России, как и везде, если человек погибает от так называемых «внешних причин» — несчастных случаев или насилия, — то это происходит в сравнительно молодом возрасте — более молодом, чем смерть от болезней системы кровообращения или рака (рис. 1). Если бы не гибель, часто случайная, от несчастного случая он все равно умер бы рано или поздно от какой-либо болезни, но до этого он мог бы прожить еще не один десяток лет. Так что, хотя все люди смертны, с точки зрения продолжительности жизни, далеко не безразлично, от каких причин они умирают.

Первая печальная особенность современной российской структуры причин смерти заключается в том, что чрезмерно велика вероятность умереть именно от тех причин, которые уносят жизнь сравнительно молодых людей. И прежде всего это относится ко внешним причинам — вероятность погибнуть от них для мужчин в России выше, чем на Западе [1] в 3,6 раза, для женщин — в 1,9 раза. У мужчин, кроме того, очень высока вероятность умереть от инфекционных заболеваний, для которых также характерен низкий средний возраст смерти. Соответственно, вероятность смерти от остальных классов причин в России ниже, чем на Западе (табл. 1 и рис. 2).
| Классы причин смерти | Мужчины | Женщины | ||||
| Россия | Запад | Россия/ Запад | Россия | Запад | Россия/ Запад | |
| Болезни системы кровообращения | 493 | 383 | 1,3 | 711 | 446 | 1,6 |
| Внешние причины | 213 | 59 | 3,6 | 65 | 34 | 1,9 |
| Новообразования | 138 | 268 | 0,5 | 125 | 206 | 0,6 |
| Болезни органов дыхания | 62 | 118 | 0,5 | 30 | 105 | 0,3 |
| Инфекционные болезни | 25 | 16 | 1,6 | 6 | 14 | 0,4 |
| Болезни органов пищеварения | 30 | 39 | 0,8 | 26 | 38 | 0,7 |
| Прочие болезни | 39 | 117 | 0,3 | 37 | 157 | 0,2 |

Но у современной российской структуры причин смерти есть и вторая печальная особенность. Мало того, что у нас особенно велика вероятность погибнуть от причин с более низким средним возрастом смерти. Кроме того, по сравнению с Западом, в России крайне низок средний возраст смерти абсолютно от всех классов причин. Разница — колоссальная, она превышает 10, 20, а иногда и 30 лет (табл. 2 и рис. 3).
| Классы причин смерти | Мужчины | Женщины | ||||
| Россия | Запад | Россий -ское превы- шение | Россия | Запад | Россий- ское превы- шение | |
| Болезни системы кровообращения | 67,6 | 78,6 | 11,0 | 77,6 | 84,2 | 6,6 |
| Внешние причины | 42,2 | 55,7 | 13,5 | 48,7 | 68,5 | 19,8 |
| Новообразования | 63,6 | 73,8 | 10,2 | 66,4 | 75,3 | 8,9 |
| Болезни органов дыхания | 59,8 | 80,8 | 21,0 | 65,2 | 83,8 | 18,6 |
| Инфекционные болезни | 44,0 | 68,9 | 24,9 | 41,0 | 76,6 | 35,6 |
| Болезни органов пищеварения | 55,8 | 71,1 | 15,3 | 64,3 | 79,9 | 15,6 |
| Прочие болезни | 32,7 | 73,1 | 40,4 | 41,9 | 80,4 | 38,5 |
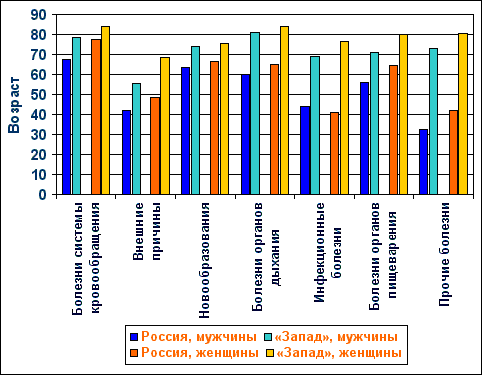
Низкий средний возраст смерти, особенно от таких причин, как болезни органов дыхания и инфекционные заболевания, указывает на очень существенные изъяны российской структуры причин смерти, которые не сразу видны при сравнении вероятностей умереть от разных причин. Поясним это на примере.
На первый взгляд, низкая доля смертей от болезней органов дыхания может показаться достоинством нашей структуры причин смерти. С точки зрения потерь ожидаемой продолжительности жизни, в России лучше умирать от болезней системы кровообращения или от рака, чем от болезней органов дыхания, и поэтому чем меньше людей умирает от этой причины, тем лучше.
Но на Западе дело обстоит иначе. Там смерть от болезней органов дыхания — самая «выгодная», потому что она наступает, как правило, в самом позднем возрасте. То обстоятельство, что средний возраст смерти от этих болезней на Западе на 21 год выше, чем в России, у мужчин и на 18,6 года — у женщин, говорит о том, что в России — это в значительной степени причина смерти детей и молодых людей, а на Западе — людей очень преклонного возраста. А это, в свою очередь, свидетельствует о намного более низкой степени контроля над этой причиной смерти в России.
Именно низкий возраст смерти от большинства причин объясняет, в первую очередь, отставание России от «Запада» по показателю ожидаемой продолжительности жизни. Если бы россияне умирали от тех же причин смерти, что они умирают сейчас, но при том среднем возрасте смерти, при котором от этих причин умирают на Западе, то у мужчин это отставание было бы намного меньшим (не 16,3, а всего 2,6 года), а у женщин его бы не было вовсе (табл. 3).
| Ожидаемая продолжительность жизни | Мужчины | Женщины |
| Россия — фактическая | 58,8 | 72,1 |
| Россия — гипотетическая | 72,5 | 81,8 |
| Запад — фактическая | 75,1 | 80,9 |
| Разница между Россией и Западом — фактическая | 16,3 | 8,9 |
| Разница между Россией и Западом — гипотетическая | 2,6 | -0,8 |
В целом бедственное положение с российской смертностью на протяжении последних четырех десятилетий в решающей степени определяется неблагоприятной динамикой смертности от двух крупных групп причин смерти — болезней системы кровообращения и, особенно, внешних причин. Наблюдавшиеся изменения смертности от всех остальных причин, вместе взятых, не только не снижали продолжительность жизни ни в одном из двух периодов, но даже в некоторой степени противодействовали такому снижению (табл. 4).
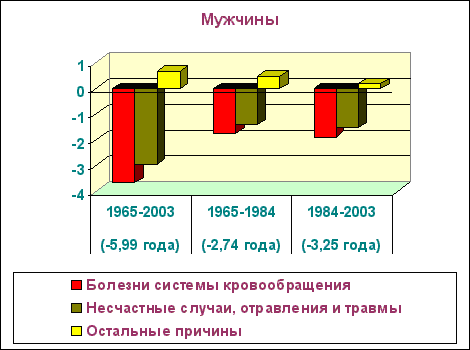

Рассматривая рис. 4а и 4б, необходимо учитывать две указанные выше особенности российской структуры причин смерти, без чего нельзя понять грозную роль, которую играют у нас внешние причины смерти. Сочетание чрезвычайно высокой вероятности смерти от них (у мужчин — в 3,6 раза выше, чем на Западе) с очень низким возрастом смерти (у мужчин — 42,2 года, на 13,5 года ниже, чем на Западе), превращают внешние причины в главное препятствие росту продолжительности жизни в России.
Хотя для российских мужчин вероятность умереть от болезней системы кровообращения более чем вдвое превосходит вероятность смерти от внешних причин (напомним, что на Западе разница более чем шестикратная — см табл. 1), вклад последних в снижение продолжительности жизни мужчин в 1965-2003 гг. был лишь примерно на 20% ниже, чем сердечно-сосудистых заболеваний, и даже у женщин в последние два десятилетия он почти сравнялся с вкладом этих заболеваний (рис. 4б).
Если же оценить соответствующий вклад в смертность наиболее жизнеспособной части населения — взрослых в возрасте от 15 до 65 лет, — то внешние причины вообще выходят на первое место: их вклад в снижение продолжительности жизни взрослых мужчин за весь период с 1965 г., взрослых мужчин и даже женщин за период с 1965 по 1984 г. превосходит вклад болезней системы кровообращения (рис. 5).


Именно внешние причины определяют главные потери недожитых лет потенциальной жизни у населения до наступления старости, т.е. число лет, которое можно было бы прожить до достижения определенного возраста, если бы смертей от данной причин до этого возраста не было вовсе. В России на протяжении всего периода, за который имеются данные о причинах смерти (с 1956 года), потери недожитых лет потенциальной жизни в возрасте до 65 лет из-за смертности от внешних причин были большими, чем из-за смертности от болезней системы кровообращения, а в последние годы они превосходят также и потери от всех остальных причин (кроме болезней системы кровообращения) вместе взятых (рис. 6). С начала 1990-х годов они превышают 35% всех недожитых в этом возрасте человеко-лет.
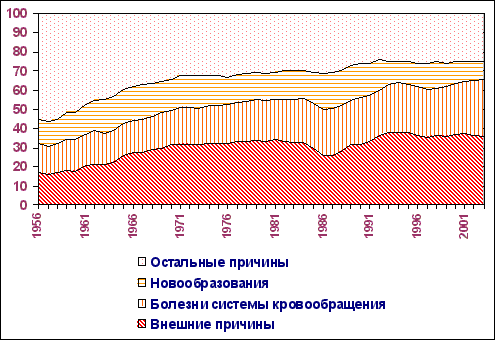
Если предположить, что кризиса смертности последних 40 лет не было бы и после 1965 года возрастные коэффициенты смертности в России не росли или стагнировали, а снижались бы такими же темпами как, в среднем, в странах ЕС-15, США и Японии в период с 1961 по 1996 год, а остальные составляющие демографической динамики (рождаемость и миграция) оставались бы такими, какими они были в действительности, то общее число умерших за 1965-2003 годы было бы меньше фактического почти на 17 миллионов. Половозрастная структура этих не предотвращенных потерь представлена в табл. 4 и на рис. 6. Почти 12 миллионов преждевременно умерших приходится на рабочие возраста, из них свыше 9 миллионов — мужчины.
| Всего | Мужчины | Женщины | |
| Всего | -16781 | -10990 | -5792 |
| в т.ч. в возрасте: | |||
| дорабочем (0-15) | -803 | -501 | -303 |
| рабочем (16-54/59) | -11660 | -9275 | -2385 |
| послерабочем (55/60+) | -4318 | -1214 | -3104 |
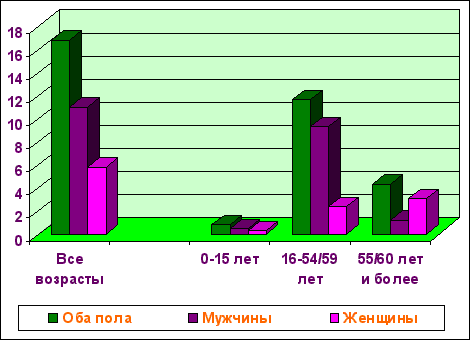
Если бы не эти огромные, оставшиеся почти незамеченными, потери, то, с учетом рождений, не состоявшихся из-за смерти потенциальных родителей, сегодняшнее население России было бы на 17,1 млн. человек больше, чем фактически имеющееся (рис. 8).
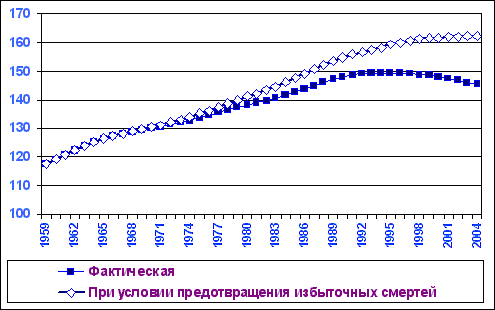
То, что показатели смертности в России свидетельствуют о большом неблагополучии, признают все. Но очень часто это неблагополучие связывают только с событиями последних 15 лет, полагая, что высокая смертность — порождение неудачно проводившихся реформ, избавившись от которых можно быстро выправить положение.
Вера в то, что рост смертности есть проблема последних полутора десятилетий чрезвычайно облегчает и объяснение причин этого роста, и выбор способа его преодоления. Так, по мнению И.А. Гундарова, которое пропагандируется в целой серии его публикаций, ни один из известных социально-экономических факторов не объясняет сегодняшний рост смертности (Гундаров отрицает возможное влияние на этот рост пьянства, курения, качества питания), с которым бороться можно лишь путем достижения «духовной гармонии» и преодолением последствий либеральных реформ. «Либеральный проект оказался неадекватным высокому уровню культурного развития, который был достигнут народами социалистического содружества к концу ХХ века» [2].
Но если это так, чем объяснить, что кризис смертности развернулся задолго до начала либеральных реформ и именно во времена существования «социалистического содружества»? Ведь этот кризис никем не придуман, о нем свидетельствуют официальные советские данные, которые существовали всегда, но были засекречены, — и именно потому, что они указывали на кризис. Сейчас эти данные доступны всем, однако утаивание или приукрашивание их смысла продолжается.
Вот, например, как описывается в одной из работ динамика младенческой смертности. «За послевоенный период наблюдается четкая тенденция ее снижения. В течение 40 лет (с 1960 по 1997) этот показатель уменьшился в 2 раза. Однако общее направление многократно нарушалось, отражая «возвратное» движение. Последний раз это произошло в 1993 г., когда младенческая смертность поднялась до уровня, наблюдавшегося в первой половине 80-х годов. Ситуация оказалась отброшенной на десятилетие назад. Сложившийся в России уровень младенческой смертности в несколько раз превышает уровень западноевропейских стран» [3].
Но ведь это превышение возникло именно тогда, когда наблюдалась упомянутая якобы существовавшая «четкая тенденция», которой, на самом деле, не было. После 1971 года младенческая смертность росла и еще в 1981 году была выше, чем в 1971. Что же касается роста показателя в 1991-1993 годах, то он действительно имел место, но был намного меньшим, чем в 1970-е годы и далеко не столь продолжительным (даже если не упоминать о том, что, по крайней мере отчасти, он был связан с переходом в 1993 году на международные стандарты определения живорождения). Но в целом, как было показано в первой части нашей статьи, за последние 20 лет младенческая смертность снизилась значительно больше, чем за предыдущее двадцатилетие.
Все это говорится не для того, чтобы «заступиться» за реформы, а для того, чтобы избежать неверного диагноза застарелой болезни и связанных с этим иллюзий. Никаких позитивных «четких тенденций» в области смертности, предшествовавших «либеральному проекту», не было и в помине. Речь идет о глубоком затяжном кризисе, преодолеть который совсем непросто.
Нетрудно, как это нередко делалось и делается, составить обширный перечень обстоятельств, помогающих понять плачевный итог борьбы со смертью в России, и предложить набор тактических мер противодействия каждому неблагоприятному фактору. Но уже давно ясно, что наша главная беда — отсутствие стратегического взгляда на проблему смертности, без чего любые тактические решения оказываются неэффективными.
Главные препятствия выработке единой стратегии борьбы со смертью находятся, по-видимому, в ценностной сфере, в сфере общественного целеполагания. И нагромоздились эти препятствия, скорее всего, именно в те времена, о которых с такой ностальгией вспоминают противники «либерального проекта».
Нигде в мире снижение смертности не произошло само собой. Успехи Запада в увеличении продолжительности жизни потребовали мобилизации огромных материальных ресурсов, включая расходы на здравоохранение, охрану окружающей среды, пропаганду здорового образа жизни, развитие научных исследований; одновременно были существенно пересмотрены законодательные акты, связанные с охраной здоровья. Но, кроме того, резко повысилась активность самого населения, направленная на оздоровление образа жизни и среды обитания, изменилось массовое поведение людей, влияющее на сохранение их здоровья. В конечном счете, изменился весь социальный климат, в котором протекает повседневная жизнь людей.
До тех пор, пока подобное изменение социального климата не произойдет и у нас, Россия не сможет ответить на становящийся все более грозным вызов смертности.
Примечания
[1] Здесь и далее в качестве «западных» используются усредненные показатели для 17 стран — ЕС-15, США и Японии, также условно отнесенной к «Западу».
[2] Гундаров И.А. Демографическая катастрофа в России: причины, механизм, пути преодоления. Москва, Эдиториал УРСС, 2001, с. 80-81.
[3] Римашевская Н.М. Человек и реформы. Секрет выживания. 2003, с. 50.