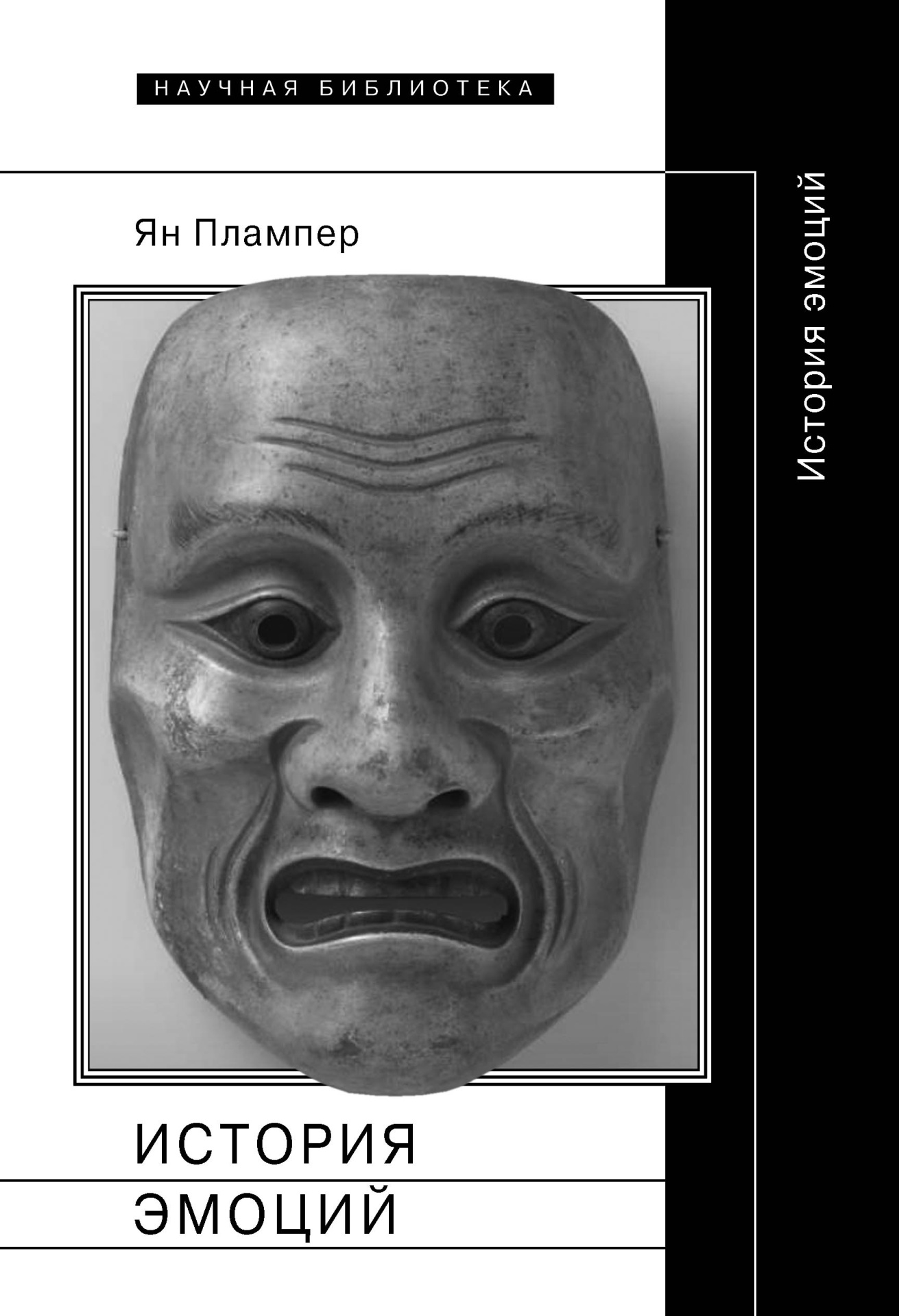
Издательство «Новое литературное обозрение» представляет второе издание книги Яна Плампера «История эмоций» (перевод Кирилла Левинсона).
Книга посвящена истории изучения эмоций — одной из наиболее быстро растущих областей в современной исторической науке. Она представляет собой первую монографию, знакомящую читателя как с прошлым и настоящим этой области, так и с предлагаемым направлением дальнейшего ее развития. Книга построена вокруг спора между социально-конструктивистскими и универсалистскими теориями эмоций — спора, который структурировал исследовательскую практику в различных областях изучения чувств на протяжении более ста лет: социальные конструктивисты полагают, что эмоции являются преимущественно результатом научения, культурно специфичны и подвержены историческим изменениям, тогда как универсалисты настаивают на том, что эмоции одинаковы во всех культурах и во все времена. Автор историзирует и проблематизирует эту бинарную оппозицию, указывая на возможности изучения эмоций за пределами конструктивизма и универсализма. Кроме того, в книге описывается история ученой рефлексии по поводу чувств в науках о жизни — от экспериментальной психологии XIX в. до новейшей аффективной нейронауки, а также в антропологии, философии, социологии, лингвистике, истории искусств, политической науке и истории с древних времен до наших дней.
Предлагаем прочитать фрагмент книги.
1990-е годы — I. Антропология эмоций после социального конструктивизма
После экскурса в социологию вернемся к антропологии и еще раз обратимся к основному вопросу культурных войн: «E pluribus unum» или «E pluribus plures»? «Из многих — одно» или «Из многих — многие»? Если в 1980-е годы за «unum» выступали в основном консерваторы, такие как Гертруда Химмельфарб или Уильям Ф. Бакли-младший, то в 1990-е годы маятник качнулся в обратную сторону. Теперь к консерваторам все чаще присоединялись левые — либералы, такие как Дэвид Холлинджер, и бывшие активисты студенческого движения, такие как Тодд Гитлин, — считавшие, что «политика идентичности» (identity politics), культивирование партикуляризма различных меньшинств и субкультур, грозит зайти слишком далеко и что упущена из внимания самая главная проблема: социальное неравенство1. Пусть геи и лесбиянки достигли впечатляющих успехов и подвергались в общественной жизни меньшей дискриминации, чем когда-либо раньше в американской истории — что в этом всем проку, если уровень младенческой смертности в некоторых районах Нью-Йорка или Детройта был выше, чем в Бангладеш? Пусть университеты из Лиги Плюща, такие как Гарвардский, Корнельский и Дьюка, заманивали к себе академических суперзвезд, занимавшихся афроамериканскими или постколониальными исследованиями, — например, Генри Луи Гейтса-младшего или Хоми Баба, — но что из этого, если в чикагском Саутсайде бедность передавалась из поколения в поколение? Может быть, правящий класс Америки играл в «разнообразие» в кампусах лучших университетов только ради того, чтобы избежать подлинного перераспределения богатства? Аналитические категории из святой троицы — класс, раса и гендер — имели все же не равный статус: в конечном счете главным был именно класс, социально-экономические факторы были первичны. Соответственно, универсализм вместо партикуляризма. В те же годы постепенно выдыхался постструктурализм, и, как уже отмечалось в главе I, во всех дисциплинах намечался капитальный переход первенства от гуманитарных и социальных наук к наукам о жизни, таким как нейробиология, биохимия и исследования головного мозга.
Именно в этом контексте Марго Лион в 1995 году опубликовала статью с программным названием: «Мимо эмоций: об ограничениях культурного конструктивизма в изучении эмоций»2. Эмоции Лион использует в качестве наиболее яркого примера, сводя счеты с социальным конструктивизмом в антропологии в целом. «Культурный конструктивизм как подход к эмоциям имеет серьезные ограничения, — пишет Лион. — Я говорю это, потому что эмоции — это нечто большее, чем область культурных концепций, чем просто конструкция». Подвергнув основательной критике концепцию символа Клиффорда Гирца, автор возвращается к вопросу о том, что же такое на самом деле эмоции, или, точнее: «Итак, „где“ находятся эмоции?»3 Ее не удовлетворяет локализация чувств ни в социально-символическом пространстве, ни во внутреннем, психологическом. Ключевой категорией, на которую должна опираться убедительная концепция эмоций, она считает тело. Телесные аспекты эмоций, по ее мнению, до сих пор недостаточно осмыслены — как с точки зрения самой телесности, так и с точки зрения их культурной «сделанности». Поэтому в разделе статьи, посвященном «Возвращению в тело» (re-embodiment), Лион расписывает те преимущества, которые имела бы «возвращенная в тело» антропология:
Изучение эмоций может расширить наше понимание места тела в обществе через рассмотрение собственной деятельности (agency) тела. Эмоции играют центральную роль в собственной деятельности (agency) тела, ибо по самой своей природе они связывают соматические и коммуникативные аспекты бытия и, таким образом, охватывают как телесные, так и социальные, и культурные сферы.
Отсюда вывод:
Расширенное понимание эмоций и их социальной и биологической онтологии необходимо для того, чтобы преодолеть ограничения культурного конструктивизма. Ставя нашу работу по изучению эмоций в обществе на новую основу, мы должны стремиться учитывать формальные социальные отношения, такие как власть и статус, которые функционируют структурно, независимо от культурного контекста. Кроме того, мы должны преодолеть свой страх перед биологией и, таким образом, стремиться вернуть антропологию в тело4.
Впрочем, как это должно конкретно выглядеть на практике, Лион не описывает. Ее статья носит программный характер и даже не содержит еще каких-либо отсылок к наукам о жизни. Кроме того, если говорить о концепции тела, она у Лион выглядит так, словно никакого социального конструктивизма никогда и не было: она рассматривает тело как нечто не затронутое языком или культурой и, таким образом, возводит его в ранг новой сущности или природы.
Экскурс II: лингвистика эмоций
Сделаем еще один краткий экскурс, на этот раз из лингвистико-социальной антропологии в собственно лингвистику. В рамках этой дисциплины в 1990-е годы возникла отдельная область исследований, которая, с одной стороны, была связана с социально-конструктивистской антропологией эмоций, но выходила за ее пределы, а с другой стороны, вела прямой диалог с психологами, придерживавшимися универсалистского подхода.
Анна Вежбицкая и универсальный Естественный семантический метаязык (NSM)
Анна Вежбицкая (*1938) оспорила выдвинутый психологами, такими как Пол Экман, тезис, что эмоциональные слова не обязательно связаны с чувствами и что содержание некоторых базовых эмоций лучше всего передается выражением лица (об этом см. главу III). Хотя тот же самый тезис выдвигался и представителями нейронауки, искавшими универсальное содержание не в мимике, а в мозге, с помощью методов визуализации, Вежбицкая не соглашалась и с ними. «Наивными и этноцентричными» назвала она, например, утверждения Стивена Пинкера (*1954) — эволюционного психолога, использующего методы нейронауки, — который говорил, что «психическая жизнь протекает независимо от конкретных языков», или что английские понятия «можно помыслить, даже если они не названы». На это Вежбицкая возражала:
Часто встречающееся замечание, что в некоем языке имеется или отсутствует слово для той или иной эмоции, практически ничего не значит. Новые слова для обозначения чувств очень быстро входят в язык, даже без сложного процесса дефинирования; они приходят из других языков (ennui, angst, naches, amok) […] Я еще ни разу не слыхала заимствованного слова, означающего эмоцию, значение которого не было бы сразу понятно5.
Вежбицкая ссылалась на данные лингвистики, антропологии и психологии — например, на работы Джеймса Рассела (*1947), критика Экмана, — показывавшие, что слова, означающие чувства, на самом деле с чувствами связаны. Кроме того, она обратила внимание на такое противоречие: теоретики базовых эмоций, несмотря ни на что, продолжали обозначать выражения лица с помощью слов, описывающих чувства, то есть они не заменяли, например, слово «страх» формулой «расширенные зрачки, открытый рот»6.
Вместе с тем Вежбицкая, в отличие от приверженцев социального конструктивизма в антропологии эмоций, придерживалась идеи универсальности чувств. Она считает, что существует общий для всех культур метаязык, который она в ходе длительных исследований вычленила из многих языков и назвала Естественным семантическим метаязыком (NSM). На ил. 10 показано, как он выглядит.
Английская версия
Субстантивы I, YOU, SOMEONE (PERSON), SOMETHING (THING),
PEOPLE, BODY
Детерминаторы THIS, THE SAME, OTHER
Кванторы ONE, TWO, SOME, MANY/MUCH, ALL
Оценки GOOD, BAD, BIG, SMALL
Ментальные предикаты THINK, KNOW, WANT, FEEL, SEE, HEAR
Речь SAY, WORD, TRUE
Действия, события, движение DO, HAPPEN, MOVE
Существование и обладание THERE IS, HAVE
Жизнь и смерть LIVE, DIE
Логические концепты NOT, MAYBE, CAN, BECAUSE, IF
Время WHEN (TIME), NOW, AFTER, BEFORE, A LONG TIME,
A SHORT TIME, FOR SOME TIME
Пространство WHERE (PLACE), HERE, ABOVE, BELOW, FAR,
NEAR, SIDE, INSIDE
Интенсификаторы, усилители VERY, MORE
Таксономия, партономия KIND OF, PART OF
Сходство LIKE
Испанская версия
Субстантивы YO, TÚ, ALGUÉN, ALGO, GENTE, CUERPO
Детерминаторы ESTE, EL MISMO, OTRO
Кванторы UNO, DOS, ALGUNOS, MUCHOS, TODOS
Оценки BUENO, MALO, GRANDE, PEQUENO
Ментальные предикаты PENSAR, SABER/CONOCER, QUERER,
SENTIR, VER, OÍR
Речь DECIR, PALABRA, VERDAD
Действия, события, движение HACER, SUCEDER, MOVERSE
Существование и обладание HAY (EXISTIR), TENER
Жизнь и смерть VIVIR, MORIR
Логические концепты NO, QUIZÁS, PODER, PORQUE, SÍ
Время CUANDO, AHORA, ANTES, DESPUÉS, MUCHO TIEMPO,
POCO TIEMPO, POR UN TIEMPO
Пространство DÓNDE, ACQUÍ, SOBRE, DEBAJO, LEJOS, CERCA,
LADO, DENTRO
Интенсификаторы, усилители MUY, MÁS
Таксономия, партономия GÉNERO, PARTE
Сходство COMO
Ил. 10. Семантические примитивы и лексические универсалии
По мысли Вежбицкой, это — строительные блоки, используемые во всех существующих человеческих языках. Ее честолюбивое намерение заключалось в том, чтобы подтвердить с помощью метаязыка давние философские концепции относительно «врожденных идей» (Декарт), «алфавита человеческих мыслей» (Лейбниц), «сердцевины всех языков» (Вильгельм фон Гумбольдт) и «психологического единства человечества» (Франц Боас)7. Она считает, что в этот канон семантических примитивов (conceptual primitives) и лексических универсалий (lexical universals) входят и универсальные грамматические структуры8. С помощью этого универсального языка и грамматики можно выражать и эмоции, которые, соответственно, тоже повсюду одинаковы. «Главная цель» построения «естественного семантического метаязыка» Вежбицкой — «отделить существенное от случайного, выделить неизменное и свести сложные понятия к максимально простым, опираясь исключительно на концептуальные примитивы и лексико-грамматические универсалии»9. Что получится, если с помощью естественного семантического метаязыка выделить универсальный для всех культур эмоциональный материал? Вежбицкая предложила в качестве гипотезы следующий канон:
1. Во всех языках имеется слово, означающее «чувствовать» (feel).
2. На всех языках одни чувства могут быть описаны как «хорошие», другие как «плохие» (а некоторые как ни «хорошие», ни «плохие»).
3. Во всех языках имеются слова, сопоставимые со словами «плакать» и «улыбаться», то есть со словами, означающими телесное выражение хороших и плохих чувств, хотя значения их никогда не бывают тождественны.
4. Как представляется, во всех культурах люди ассоциируют некоторые изменения выражения лица (facial gestures) с хорошими или плохими чувствами: они связывают поднятые уголки рта с хорошими чувствами, а опущенные уголки рта или наморщенный нос с плохими.
5. Во всех языках имеются «эмоциональные междометия» (междометия, которые выражают чувства, базирующиеся в когнитивной сфере).
6. Во всех языках имеются некоторые «понятия для эмоций» (термины, которые обозначают какие-то чувства, базирующиеся в когнитивной сфере).
7. Во всех языках имеются слова, связывающие чувства с I) мыслью «со мной может случиться что-то плохое», II) мыслью «я хочу сделать что-то» и III) мыслью, что «люди могут подумать обо мне что-то плохое», то есть слова, по значению пересекающиеся (хотя и не идентичные) с английскими словами afraid, angry и ashamed.
8. На всех языках люди могут описывать чувства, базирующиеся в когнитивной сфере, с помощью наблюдаемых телесных «симптомов» (то есть на основании неких телодвижений, считающихся характерными для этих чувств).
9. На всех языках чувства, базирующиеся в когнитивной сфере, могут быть описаны со ссылкой на телесные ощущения.
10. На всех языках чувства, базирующиеся в когнитивной сфере, могут быть описаны с помощью фигуральных «телесных образов».
11. Во всех языках существуют альтернативные грамматические конструкции для описания (и интерпретации) чувств, базирующиеся в когнитивной сфере10.
Вывод, который делает Вежбицкая:
Очевидно, что способы думать и говорить о чувствах в разных культурах и обществах (а также в различные эпохи) демонстрируют значительное разнообразие; но не может быть сомнения и в существовании общих и даже универсальных черт. Проблема в том, как отделить культурно специфичное от универсального, как понять первое через второе и, кроме того, как выработать некое понимание универсального путем «просеивания» большого числа языков и культур, а не абсолютизации способов понимания, выведенных исключительно из нашего собственного языка. Для всего этого, как я утверждала, нам нужен обоснованно выбранное tertium comparationis, и такое tertium comparationis дает нам мини-язык общечеловеческих понятий, полученный путем эмпирических межъязыковых исследований11.
Что об этом можно сказать? Вполне может быть, что выражение эмоций в языке и мимике по крайней мере частично сводится к этим универсалиям. Но историческая наука работает иначе, ее эпистемология другая. Такие универсалии ей в конечном счете неинтересны, потому что она обращает внимание прежде всего на культурные различия. Истины, провозглашаемые Вежбицкой, для историков «тривиально верны», как прекрасно выразился Даниэль Гросс12. Но в любом случае в будущем история понятий будет опираться на лингвистику, прежде всего лексическую, а в этой сфере теории Вежбицкой являются пока наиболее обоснованными.
Золтан Кёвечеш и метафоры
Золтан Кёвечеш (*1946), специалист по метафорам, вышел за рамки лексического анализа слов, обозначающих чувства. По его мнению, содержание ярости, например, не исчерпывается словом «ярость». В статье, написанной им в конце 1980-х годов вместе с Джорджем П. Лакоффом (*1941) и часто цитируемой в том числе и представителями новой истории эмоций, Кёвечеш показал, что злость включает в себя большое количество метафор, в которых само слово «злость» даже не фигурирует, — например, «выпустить пар», «взорваться», «кровь вскипела», «с пеной у рта»13. Абстрагируя, эти образы можно свести к метафорическим формулам, таким как «злость — это жар» (например, «горячий» говорят о человеке, который легко злится); «злость — опасное животное» (например, «не буди во мне зверя»); или «злость — это бремя» (например, «дал выход злости и полегчало»). Наиболее широко распространен образ злости как «нагретой жидкости в сосуде». Эта «центральная метафора акцентирует внимание на том, что злость может быть интенсивной, что она может привести к потере контроля и что потеря контроля может быть опасной»14. На протяжении многих лет Кёвечеш последовательно развивал свою теорию метафоры, и на сегодняшний день он предлагает следующую схему:
Ил. 11. Типы эмоционального языка по Золтану Кёвечешу
Кроме того, Кёвечеш утверждает, что «чисто» эмоциональных метафор почти не существует: обычно общие метафоры применяются к эмоциям15. Верховенствующая метафора — это метафора силы, энергии или мощи: «Эмоция — это сила (force)». Таким образом, существует метафора, которой все остальные подчинены, и «эмоциональные метафоры не являются изолированными и не связанными друг с другом метафорами, расположенными каждая на своем уровне: они образуют большую и сложную систему, которая организована вокруг общих понятий силы» — это новый взгляд в сфере лингвистики эмоций16.
Кёвечеш тоже считает, что изучение эмоций находится как бы в ловушке между двумя полюсами — социальным конструктивизмом и универсализмом, — и что эта дихотомия непродуктивна, и что нужно какое-то посредничество между радикальными конструктивистами (такими, как Ром Харре, полагающий, что эмоции конструируются прежде всего средствами языка), с одной стороны, и Джозефом Леду, который утверждает, что эмоции возникают бессознательно в мозгу, а языковое их выражение — это, самое большее, «сахарная глазурь, украшающая эмоциональный торт»17, с другой стороны. Как собирается Кёвечеш поженить эти два лагеря? Универсальным или «почти универсальным» моментом, как он утверждает, является телесность эмоций18. На ее основе формулируются «почти универсальные» метафоры. Так физиологическое измерение гнева устанавливает «определенные границы для концептуализации гнева». Например, гнев телесно воспринимается как повышение температуры кожи — и это, очевидно, культурная универсалия19. Этот физиологический опыт задает рамки, в которых могут возникать метафоры гнева. Почти универсальной метафорой гнева является образ «сосуда под давлением». Кёвечеш считает, что нет причинно-следственной связи между физиологией и метафорой и поэтому телесный опыт не обязательно приводит к возникновению метафор, но делает «большое количество других возможных метафорических концептуализаций либо несовместимыми, либо неестественными. Было бы странно, например, представлять себе гнев, как, скажем, тихо падающий снег: такой образ полностью несовместим с тем, каковы наши тела и что происходит с нашей физиологией, когда мы гневаемся»20.
В итоге Кёвечеш предлагает попытку занять промежуточную позицию между полюсами социального конструктивизма и универсализма: люди, пишет он, могут предпочесть
различные способы концептуализации своих эмоций в рамках ограничений, налагаемых на них универсальной физиологией. Эти ограничения дают носителям очень разных языков широкие возможности облекать в понятия свои сильные эмоции, и делать это иногда очень по-разному21.
«Новый синтез» языка эмоций называется «телесным конструктивизмом» (body-based constructionism); он основан на предположении,
что некоторые аспекты […] универсальны и явно связаны с физиологическим функционированием тела. После того как мы отфильтруем универсальные аспекты языка эмоций, оставшиеся весьма существенные различия в языке и понятиях, описывающих чувства, могут быть объяснены различиями в культурных знаниях и прагматических дискурсивных функциях, которые действуют по неодинаковым культурно определенным правилам или сценариям. Этот подход также позволяет нам увидеть точки напряженности, где культурные интересы могут противоречить врожденным тенденциям выражения, подавлять или искажать их. Таким образом, нам не нужно навсегда оставаться в противоборствующих лагерях — «нативисты» (innatists) против «социальных конструктивистов»22.
Итак, Золтан Кёвечеш как специалист по лингвистике считает, что наиболее важными «источниками знания» об эмоциях служат слова, особенно употребляемые в фигуральном, образном смысле. В конечном итоге Кёвечеш приходит к выводу, что выражение эмоций средствами языка и образов отчасти связано с телом и универсально, а отчасти определяется культурой. Хорошо. Но в какой степени тело сводится к физиологической телесности? Что, если и тело — это тоже культура?
1. Hollinger D. A. Postethnic America: Beyond Multiculturalism. N. Y., 1995; Gitlin T. The Twilight of Common Dreams: Why America is Wracked by Culture Wars. N. Y., 1995.
2. Lyon M. L. Missing Emotion: Th e Limitations of Cultural Constructionism in the Study of Emotion // Cultural Anthropology. 1995. № 10/2. P. 244–263.
3. Ibid. P. 247.
4. Ibid. P. 251.
5. Lyon M. L. Missing Emotion. P. 256.
6. Ibid. P. 258–259.
7. Wierzbicka A. Emotions across Languages and Cultures: Diversity and Universals. Cambridge, 1999. P. 26–28, 47–48.
8. Ibid. P. 36.
9. Ibid.
10. Ibid. P. 40.
11. Ibid. P. 275–276.
12. Wierzbicka A. Emotions across Languages and Cultures. P. 306–307.
13. Gross D. M. Th e Secret History of Emotion: From Aristotle’s Rhetoric to Modern Brain Science. Chicago, 2006. P. 34.
14. Lakoff G., Kövecses Z. Th e Cognitive Model of Anger Inherent in American English // Holland D., Quinn N. (Ed.) Cultural Models in Language and Thought. Cambridge, 1987. P. 195–221, здесь p. 197, 200.
15. Lakoff G., Kövecses Z. The Cognitive Model of Anger. P. 197, 200.
16. Kövecses Z. Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling. Cambridge, 2000. P. 61, 85. Говоря профессиональным языком лингвистов, «Общий вывод, который я хотел бы сформулировать, заключается в том, что большинство сфер, служащих источниками для эмоциональных метафор, не специфичны для сферы эмоций, хотя в некоторых случаях это и так». — Ibid. P. 49.
17. LeDoux J. E. The Emotional Brain. P. 302. О Роме Харре см. Kövecses Z. Metaphor and Emotion. P. 184–185.
18. «Почти универсалии» (near-universals) и «почти универсальность» (nearuniversality) — см. в Kövecses Z. Metaphor and Emotion. P. 139.
19. Кёвечеш, опираясь на данные измерений, проведенных в ходе эксперимента Левенсоном, Экманом, Хайдером и Фризеном у жителей Северной Америки и у минангкабау на Западной Суматре, утверждает, что повышение температуры тела является физиологической реакцией на злость во всех культурах; Kövecses Z. Metaphor and Emotion. P. 159. Кёвечеш ссылается на Levenson R. W., Ekman P., Heider K., Friesen W. V. Emotion and Autonomic Nervous System Activity in the Minangkabau of West Sumatra // Journal of Personality and Social Psychology. 1992. № 62/6 P. 972–988.
20. Kövecses Z. Metaphor and Emotion. P. 160. Кёвечеш более осторожно движется в направлении культурного универсализма, чем это можно было бы здесь объяснить. Он не исключает и возможность того, что универсальное распространение метафор злости представляет собой «чистую случайность» или объясняется «трансфером из одной культуры в другие», однако более убедительным объяснением считает универсальную телесную основу. Ibid. P. 162.
21. Ibid. P. 165, выделено в оригинале.
22. Ibid. P. 183.

