Институт демографии Государственный университет Высшая школа экономики | ||
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ | ||
101000, Москва, Покровский бульвар, д. 11; Факс (495) 628-7931 | ||
«… взрослый человек – это лицо, обладающее физиологической, психологической, социальной, нравственной зрелостью, экономической независимостью, жизненным опытом и уровнем самосознания, достаточным для ответственного и самоуправляемого поведения»
Из учебника[1]
«Мне кажется, что мы имеем дело с совершенно новым массовым явлением – исчезновением взрослости»
М. Арутюнян. «Взгляни на мир по-детски!». Отечественные записки. №3. 2006.

В последние годы резко возрос интерес к изучению жизненного цикла современного человека и ценностно-нормативных регуляторов, определяющих характер изменений в календаре событий его жизни.
Фундаментальные демографические сдвиги вызывают необратимые изменения в возрастной стратификации общества и социально-экономическом балансе между поколениями, что влечет за собой структурные преобразования в экономике, глубокую трансформацию социальной структуры общества и соответствующие институциональные изменения. Социально-психологическое взаимодействие поколений также переживает сдвиги, не часто имевшие прецеденты в прошлом. По меткому выражению М.Ю.Арутюнян: «Взрослые не стареют, дети не растут».
Систему представлений и образов, в которых общество воспринимает, осмысливает и освящает (легитимирует) жизненный путь индивида и возрастную стратификацию, И.С.Кон очень точно назвал «возрастным символизмом культуры»[2]. Когда-то в прошлом календарный возраст для человека значил немного. Средневековый человек плохо знал собственный возраст и возраст своих детей, а если и знал, то использовал его почти исключительно в астрологических целях. Понятие хронологического возраста появляется по мере того, как индивидуальная жизнь обретает самостоятельную ценность, а господствующая в традиционном обществе идея извечных природных циклов (детство-взрослость-старость) сменяется идеей развития социализирующегося индивида. Усложнение социальной реальности, в которую должен быть интегрирован индивид, приводит к усложнению критериев его развития. Социальное созревание все более обретает черты многомерного процесса, проходящего через различные этапы, важнейшие из которых – завершение образования, приобретение стабильной профессии, начало трудовой деятельности, материальная независимость от родителей, политическое и гражданское совершеннолетие, вступление в брак, рождение первого ребенка[3].
За каждым из перечисленных выше этапов и их последовательностью в жизненном цикле стоит социокультурная нормативная система возрастных предпочтений («возрастных символов»), которая подвержена неизбежным историческим подвижкам. Обретение человечеством юности как особого, необходимого периода развития личности - «прелюдии зрелости», а затем и удлинение его длительности, непрерывного расширения многомерности составляющих его процессов, приводит к увеличению временного разрыва между физическим, психологическим и социальным созреванием среднестатистического индивида. С какого момента человека можно считать взрослым, становится все менее очевидно. Молодые люди сегодня достигают социокультурной зрелости задолго до того, как обретают экономическую независимость от родителей. Современное общество благоприятствует раннему наступлению совершеннолетия – прежде всего в области потребления, а также в сексуальных и других межличностных отношениях. Молодые люди, еще не став производителями, уже выступают как активные потребители. Компетентное участие подростков в потреблении делает их более зрелыми с социокультурной точки зрения, чем это было у предыдущих поколений в том же возрасте[4]. Не случайно возрастные периодизации отногенеза личности, предлагаемые каждым новым автором, ставятся все более сложными по структуре и все менее определенными в отношении возрастных границ[5].
Взаимодействие социально-возрастных страт на экономической и политической арене в XXI веке будет принципиально иным, чем было прежде, и хотелось бы знать хотя бы общие черты будущей социальной организации. От того, кого мы будем считать детьми, требующими патерналистской заботы, кого - людьми социально зрелыми, способными принимать самостоятельные решения, и кого - стариками, взывающими о помощи, зависит, в каком направлении будет развиваться процесс институциализации межпоколенных взаимодействий: отношений на рынке труда, отношений, связанных с социальной мобильностью, отношений распределения и перераспределения социальных благ и др.
Параллельно макросистемным тектоническим сдвигам, а, вероятнее всего, во взаимообусловленности с ними, происходят не менее фундаментальные подвижки на уровне индивидуальных жизненных стратегий. Расширяется индивидуализация поведения человека, нацеленного на самоидентификацию, поведенческие практики освобождаются от прежней жесткости соционормативных регуляторов в самых различных сферах жизнедеятельности. Параметры жизненного цикла современных поколений гораздо более вариабельны, чем они были у их родителей. Более того, оставаясь полностью или частично зависимыми от родителей, молодежь ведет себя независимее от нормативных представлений последних, особенно в сексуальной, матримониальной и репродуктивной сфере. На смену стандартной, предопределенной последовательности событий в индивидуальных биографиях приходит разнообразие индивидуальных жизненных путей. Возможности каждого человека управлять своей индивидуальной судьбой, собственной биографией несоизмеримо возросли в двадцатом веке, и особенно заметно во второй его половине[6]. Происходит ли замещение слабеющих пут внешних воздействий и ограничений механизмами внутренних регуляторов настройки индивидуальных календарей жизненных циклов, как указывают некоторые авторы[7]? Если да, то означает ли это, что адаптационные возможности современного человека по отношению к макросистемным изменениям становятся настолько безграничными, что теряет значение политика в узком значении - в качестве инструмента побуждений и принуждений к выполнению социально значимых функций?
Планирование собственного жизненного цикла (событийного ряда и времени наступления событий) все более становится неотъемлемой частью подготовки индивида к будущим социальным действиям и взаимодействиям, а последующее «выполнение планов» - частью успешной самореализации и самоидентификации[8]. Если это действительно так, то имеет прямой смысл социологическими методами заглянуть в «кухню» разработки и принятия индивидуальных планов «построения собственной судьбы». Оценив неслучайную вариабельность индивидуальных планов в разрезе поколений и социальных групп, можно получить представление о доминирующем векторе будущих изменений в базовых социальных процессах. В первую очередь, это касается трансформации моделей брачно-семейных отношений и рождаемости, изменений в образовательных и трудовых стратегиях, социальной активности пожилых.
Подобное изучение стало возможно благодаря включению (это было сделано впервые) специального блока вопросов, посвященных нормативно-ценностным представлениям о жизненном цикле европейцев[9], в программу третьей волны международного сравнительного социального исследования («Европейское социальное исследование» /ESS[10]), проведенного в 2006-2007 гг.. Целая серия вопросов касалась представлений населения о нормативном («идеальном») возрасте наступления важнейших событий начального этапа «взрослой» жизни человека, в том числе: признания права считаться «взрослым», обретения прав на начало сексуальной жизни, прав на создание собственной семьи. Для изучения этого же ценностно-нормативного пространства были призваны вопросы, касающиеся наилучшего возраста завершения образования, рождения детей, прекращения репродуктивной и трудовой деятельности. Наконец, вопросы, призванные характеризовать массовые представления о возрастных границах перехода в стадии жизненного цикла, определяемых как «зрелость» («средний возраст») и «старость», завершают общую конструкцию измерителей общественного мнения о стадиях жизненного цикла современного человека.
В данной статье мы ограничимся рассмотрением представлений об идеальном возрасте наступления событий начального этапа жизненного цикла, обозначающих вступление девушек во взрослую жизнь. Речь пойдет о наилучшем возрасте завершения для девушки образования, расставания с родительским домом, начала сексуальной жизни, обретения постоянного партнера, вступления в брак и материнства. Ключевым же для анализа будет ответ на вопрос о том, начиная с какого возраста, девушка может считаться взрослой. Важность акцентирования внимания на начальных этапах жизненного цикла женщины связана с тем, что плотность событий в этот период высока, как ни в какой другой период жизни[11], и от того, какой поведенческий сценарий будет избран, во многом зависит, как сложится ее дальнейшая судьба. В то же время именно в жизненном цикле взрослеющей девушки в последние десятилетия наблюдаются наиболее фундаментальные изменения, касающиеся образовательных и профессиональных стратегий, в сексуальном, матримониальном и репродуктивном поведении. Более того, как показывают некоторые исследования, женщины имеют склонность к управлению ориентациями молодых мужчин, связанных с переходом к взрослой жизни, корректируя и «настраивая» в желательную для себя сторону хронологию связанных с этим ключевых событий в межличностных отношениях[12].
На рис.1 представлена идеальная возрастная последовательность ключевых социально-демографических событий для каждой из 25 стран, охваченных исследованием, а также усредненная для всей совокупности опрошенных[13]. В качестве иллюстрации индивидуальных профилей на рисунке выделена Франция как страна, в которой «идеальный» календарь событий близко соответствует усредненному профилю для европейских стран, а также Испания и Финляндия – западноевропейские страны, демонстрирующие систематические полярные отклонения от усредненной кривой. Наконец, выделен также профиль для России, контрольной парой для которой выступает Украина.
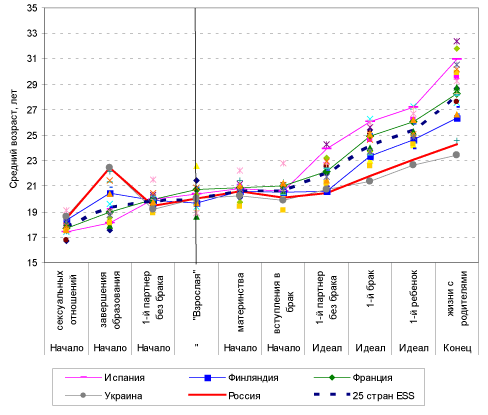
Рисунок 1. Идеальная возрастная последовательность ключевых событий для женщины, вступающей во «взрослую» жизнь.
Источник: расчеты автора по данным ЕСС 2006-2007.
Для всех стран первым из рассматриваемых событий в жизни взрослеющей девушки (в соответствии с возрастом его наступления) является сексуальный дебют[14]. Можно считать, что одобряемый возраст этого события варьируется по европейским странам в пределах от менее 17 лет (в Австрии и Германии) до 19 лет в Ирландии при общей средней в 17,8 года. В России одобряемый возраст начала сексуальных отношений выше, чем в среднем по Европе – 18,5 лет. Близкие к России значения (18,3-18,6 лет) демонстрируют: Кипр, Финляндия, Венгрия, Польша, Украина. Заметим, что полученная величина для России полностью соответствует среднему возрасту фактического начала половой жизни россиянок по данным репрезентативных исследований, что свидетельствует об отсутствии сколько-нибудь значимого конфликта на массовом уровне в России между нормативными представлениями и наиболее распространенными практиками сексуального поведения молодежи[15]. Нормативные представления о возрасте для девушки, когда «еще рано начинать сексуальные отношения», во всех странах меняются в сторону более низкого возраста сексуального дебюта при переходе от старших возрастных групп опрошенных к более молодым (рис.2). Вероятнее всего, за этим стоит реальная межпоколенная динамика в сторону более раннего начала сексуальной активности от поколения к поколению, отмечаемая повсеместно в развитых странах, и российские тенденции, с некоторым запаздыванием встраиваются в общеевропейский контекст[16].
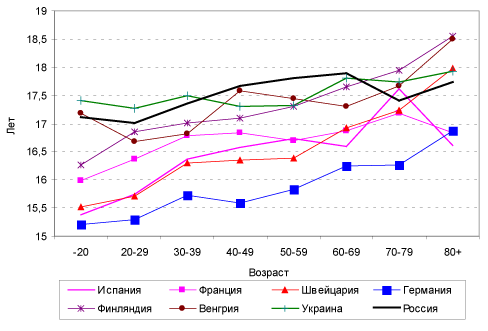
Рисунок 2. Возраст, в котором «женщина еще слишком молода, чтобы начинать сексуальные отношения» по возрастным группам опрошенных в России и некоторых других странах, лет.
Источник: Расчеты автора по данным ЕСС.
Следующее во временной цепочке событие по результатам усредненного «европейского» профиля – «завершение образования». По европейским меркам, задумываться о том, учиться ли дальше, сегодня не предосудительно в 19 лет (соответственно 18-летняя девушка еще «слишком молода», чтобы завершать образование[17]). В то же время вариация социально одобряемых возрастов завершения образования по странам велика, намного выше, чем для социально ободряемого возраста сексуального дебюта.
В Австрии, Великобритании, Болгарии и на Кипре завершать образование допускается до 18 лет, а в Норвегии, Швеции, Финляндии и Венгрии – от 20 до 21 года. Россия и Украина продемонстрировали самые завышенные требования к длительности обучения для девушки: возраст, в котором, по мнению респондентов, можно завершать образование – 22,4 года – соответствует возрасту получения диплома о высшем профессиональном образовании в этих странах. Близко к максимальным уровням находится Дания - 22,2 года. В то же время, по среднему числу лет, фактически затраченных на обучение, - 13,6, российские женщины все еще сильно отстают от женщин в западноевропейских странах (кроме Португалии), и тем более от Финляндии и Дании, в которых этот показатель вплотную приблизился к 16 годам (рис. 4). Кроме того, Россия и Украина выделяются высокой долей респондентов (соответственно 36% и 27%), полагающих, что девушка/женщина «никогда не бывает молода», чтобы завершать образование. Чуть более низкие проценты мы находим в Латвии, Румынии и Дании (около 20%), в Австрии – 16%, Швейцарии – 14%. В остальных странах этот процент, как правило, не достигает и 10%. Не есть ли это косвенные свидетельства скрытого недовольства уровнем образования женщин в России, особенно характерного для лиц средних и пожилых возрастов, для которых разрыв между фактически полученным и желательным уровнями образования максимален? Если это так, то можно ожидать, что в России будет продолжаться процесс приобщения женщин к высшему образованию, резко ускорившийся в последние два десятилетия.
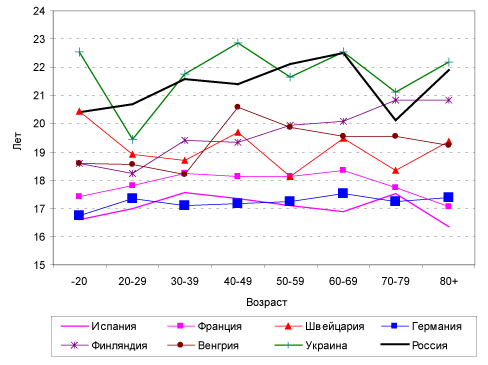
Рисунок 3. Возраст, в котором «женщина еще слишком молода, чтобы заканчивать получение образования» по возрастным группам опрошенных в России и некоторых других странах
Источник: Расчеты автора по данным ЕСС.
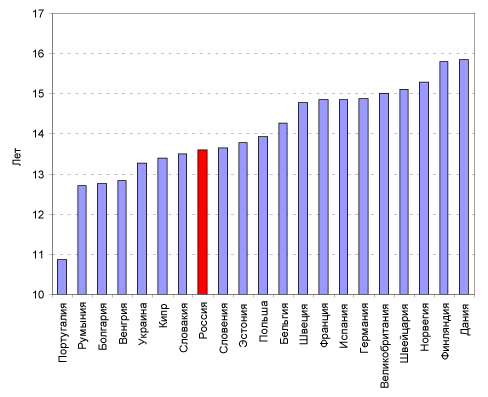
Рисунок 4. Среднее число лет, фактически затраченных на обучение женщинами в России и в других странах
Источник: Расчеты автора по данным ЕСС
На величине одобряемого возраста завершения образования сказывается принятая в той или иной стране система уровней профессионального образования. Поэтому, с некоторой долей условности, можно выделить группу стран, в которых уже стало достижительной нормой высшее образование (не ниже бакалавра), группу стран, в которых для девушки желательны, как минимум, промежуточные, послешкольные уровни образования (типа лицея, специальных училищ и т.п.), и страны, в которых полное школьное образование с 11-12-летним обучением считается вполне достаточным. К первой группе тогда будут отнесены: Россия, Украина, Дания, Словения, Польша, Норвегия, Швеция, Финляндия, Венгрия, ко второй группе – Швейцария, Бельгия, Эстония, Франция, Ирландия, Латвия, Португалия, Словакия, а к третьей (школьной) – Австрия, Болгария, Кипр, Германия, Испания, Великобритания, Нидерланды, Румыния.
Обращает на себя внимание, что в группе стран с самым высоким допускаемым возрастом завершения образования, куда входит и Россия, возрастной порог перехода из «детского» или «подросткового» статуса во «взрослый» расположен ниже порога завершения образования. Означает ли это, что профессиональное образование в этих странах стало атрибутом «взрослой» жизни, когда решение о том, сколько учиться и на кого учиться принимается самим, уже «взрослым» учеником? Возможно, для скандинавских стран это и так. Но в России – это, безусловно, не так. Присутствие России в ряду стран с самыми высокими образовательными притязаниями для девушки заставляет сомневаться, что студентка и в скандинавских странах рассматривается как «взрослый», самостоятельный человек. По всей видимости, мы сталкиваемся с реальным противоречием в «идеальном» расписании человеческой жизни современного человека: учиться надо бы дольше, чем прежде, но признание того, что в этом случае «ребенком» следует считать девушку в возрасте 20 лет и даже старше, дается с трудом. Совершенно очевидно, что завершение образования не тождественно наступлению взрослости. И.С. Кон обращал на это внимание еще в далекие 1960-е годы[18].
Интересно, что, несмотря на очевидное общее увеличение фактической длительности получения образования от поколения к поколению, ясная межпоколенная динамика допускаемого (нормативного в общественном мнении) возраста завершения образования, в Европе, видимо, отсутствует - в большинстве развитых стран юные, зрелые и пожилые респонденты сообщают о примерно одинаковом среднем возрасте, когда можно заканчивать учиться. В то же время в ряде стран, молодые люди даже склонны называть более ранний возраст завершения образования, чем от них ожидают их родители. К числу таких стран относится, в частности, Россия, Финляндия и ряд стран в Восточной Европе (рис.3).
Первый опыт проживания с партнером под одной крышей без регистрации брака в представлениях «среднего» европейца завершает юношеский период жизненного цикла девушки (т.е. период до признания ее взрослым человеком). Вариация возраста, с которого допускается наступление такого события, по странам незначительна – укладывается в пределы 19-20 лет (исключение – 21,5 лет в Ирландии), и российский показатель – 19,5 лет, находится на среднем уровне. Гораздо важнее оказываются различия между странами по признанию на массовом уровне права девушки на столь нетрадиционное поведение. Толерантность к добрачному/безбрачному сожительству в Европе удивительна – лишь на Украине, в Румынии и в Польше сохраняется остаточная распространенность традиционного неприятия такого модуса поведения для женщины («никогда нельзя жить с партнером, не вступив в брак») на уровне 14-15% от числа опрошенных. В Северной и Западной Европе добрачное сожительство стало нормой, чуть ли не обязательной прелюдией к брачно-семейной жизни (табл.1). Похоже, что повсеместно в Европе признание права считаться «взрослой» наступает позже, и по логике, первый партнерский союз должен был бы считаться «подростковой забавой». В России, как и в целом ряде других восточноевропейских стран, негативное отношение к сожительствам все еще встречается часто. На прямой вопрос того же обследования: одобряют ли респонденты проживание партнеров без брака, 37% россиян дали отрицательный ответ (сумма ответов «полностью не одобряют» и «не одобряют», а 23% высказались одобрительно (оставшиеся 40% свое мнение держат «где-то посередине»). Близкая к российской доля критически настроенных респондентов по отношению к неформальным союзам наблюдается в Болгарии, Польше, Словакии, а в Румынии и Украине таковых даже еще больше - соответственно, 41% и 54%. Переходной восточноевропейской морали противостоит уже полностью модернизированная мораль Западной Европы, где доля неодобрительно высказывающихся не превышает 15% (за исключением Ирландии, в которой традиционалистов около 20%).
В то же время, представляется бесспорным, что и сексуальная революция, и модернизация матримониального поведения близки к завершению во всех развитых странах без исключения. Это подтверждается и тем, что допускаемый возраст сексуального дебюта для девушки повсеместно достиг весьма низкого уровня - возраста официально признаваемого совершеннолетия или немного ниже[19].
Таблица 1. Распределения ответов на вопрос: «Как Вы считаете, каков идеальный возраст для девочки, девушки или женщины, чтобы начать жить вместе со своим партнером, не вступая с ним в брак?», %
| Указали конкретный возраст | «Нет идеального возраста» | «Никогда нельзя жить с партнером, не вступив в брак» | Затрудни- лись с ответом | Отказа- лись отвечать | Всего | |
| Австрия | 54,5 | 33,3 | 2,2 | 9,2 | 0,7 | 100 |
| Бельгия | 94,0 | 3,4 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 100 |
| Болгария | 73,5 | 5,3 | 8,2 | 12,8 | 0,1 | 100 |
| Швейцария | 74,1 | 20,8 | 1,5 | 3,5 | 0,1 | 100 |
| Кипр | 83,8 | 6,0 | 7,2 | 2,6 | 0,3 | 100 |
| Германия | 76,4 | 16,5 | 1,5 | 5,3 | 0,4 | 100 |
| Дания | 80,9 | 13,8 | 1,2 | 2,7 | 1,5 | 100 |
| Эстония | 77,3 | 13,0 | 4,1 | 5,6 | 0,0 | 100 |
| Испания | 77,5 | 9,4 | 5,8 | 6,3 | 1,1 | 100 |
| Финляндия | 88,7 | 4,8 | 3,0 | 3,5 | 0,1 | 100 |
| Франция | 91,7 | 3,5 | 1,4 | 3,3 | 0,0 | 100 |
| Великобрита- ния | 78,6 | 11,1 | 4,0 | 6,3 | 0,0 | 100 |
| Венгрия | 71,7 | 18,1 | 4,4 | 5,8 | 0,1 | 100 |
| Ирландия | 59,8 | 23,4 | 7,7 | 6,3 | 2,7 | 100 |
| Латвия* | 61,2 | 21,7 | 7,6 | 8,9 | 0,6 | 100 |
| Нидерланды | 85,8 | 7,8 | 2,7 | 3,2 | 0,5 | 100 |
| Норвегия | 91,9 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 100 |
| Польша | 68,1 | 8,9 | 14,2 | 8,8 | 0,1 | 100 |
| Португалия | 70,0 | 19,2 | 4,2 | 6,5 | 0,1 | 100 |
| Румыния* | 64,1 | 10,4 | 15,1 | 4,0 | 6,5 | 100 |
| Россия | 68,1 | 14,0 | 8,9 | 8,9 | 0,0 | 100 |
| Швеция | 85,1 | 10,1 | 1,1 | 3,3 | 0,4 | 100 |
| Словения | 75,9 | 16,1 | 2,7 | 5,3 | 0,0 | 100 |
| Словакия | 74,9 | 11,8 | 7,4 | 5,5 | 0,5 | 100 |
| Украина | 63,0 | 15,8 | 15,2 | 6,0 | 0,0 | 100 |
| Все страны | 76,2 | 13,1 | 4,8 | 5,5 | 0,4 | 100 |
* Здесь и далее результаты для Латвии и Румынии получены без использования процедуры взвешивания по причине отсутствия в доступной базе данных дизайн-весов для этих стран.
Бесспорно, социальное признание права вступать в брак и быть родителем тесно связано с понятием взрослости. Однако, как будет показано ниже, ассоциативная связь между «взрослым» статусом женщины и замужеством, материнством сегодня становится не столь однозначной, как в прежние эпохи.
С одной стороны, действительно, возрастные границы периода, когда признается возможность для девушки выйти замуж и родить первенца, во всех странах находятся очень близко к среднему возрасту обретения девушкой статуса взрослой женщины. Более того, вариация возрастов, когда допускается начало матримониальной и репродуктивной карьеры, по странам очень незначительна – 19-21 год (рис.4 и 5).
С другой стороны, представления о том, когда следует вступать в брак и рожать детей (идеальные возраста для данных событий), сегодня сильно оторвались от представлений, начиная с какого возраста, уже можно выходить замуж и становится матерью[20]. Идеальные возраста вступления в брак и рождения первенца для женщин во всех странах существенно превышают возраста, начиная с которых допускается вступление в брак и рождение ребенка. Кроме того, не наблюдается никакой корреляции между распределениями стран по «минимальному» и «идеальному» возрасту для данных событий (рис.5 и 6).
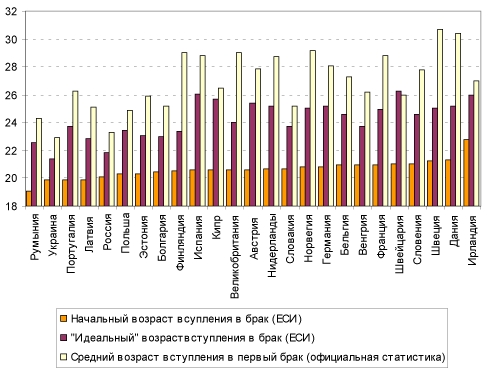
Рисунок 5. Возраст, начиная с которого женщине «можно» вступать в брак, «идеальный» возраст вступления в брак (средние значения для каждой страны по данным ЕСС, 2006-2007 гг.) и фактический средний возраст заключения брака по данным официальной регистрации в первой половине 2000-х гг.
Примечание: Страны ранжированы по значению возраста, начиная с которого, по мнению опрошенных, не возбраняется для женщины вступление в брак.
Источник: Расчеты автора по данным ЕСС, а также база данных ИДЕМ ГУ ВШЭ (доступна на сайте: www.demoscope.ru).
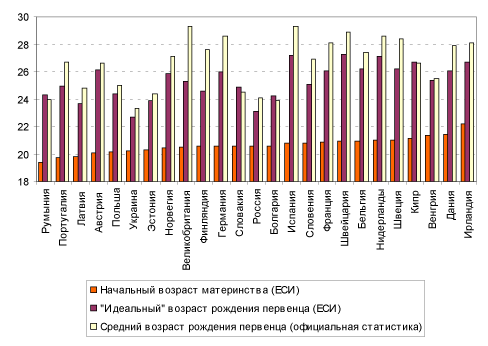
Рисунок 6. Возраст, начиная с которого женщине «можно» становиться матерью, «идеальный» возраст рождения первенца (средние значения для каждой страны по данным ЕСС, 2006-2007 гг.) и фактический средний возраст матери при рождении первого ребенка по данным официальной регистрации в первой половине 2000-х гг.
Примечание: Страны ранжированы по значению начального возраста вступления в брак.
Источник: Расчеты автора по данным ЕСС, а также база данных ИДЕМ ГУ ВШЭ (доступна на сайте: www.demoscope.ru).
Тенденция к «постарению» возрастных моделей брачности и рождаемости – ведущая тенденция для развитых стран с начала 1970-х годов, охватившая два десятилетия спустя и Россию с ее соседями по Восточной Европе[21]. Несинхронность перехода к модели более позднего начала формирования семьи в Европе привела к большим межстрановым различиям возрастных профилей брачности и рождаемости. Так, средний возраст вступления в первый брак для женщины в начале 2000-х годов варьировался по европейским странам от 23 лет на Украине и в России до 30 лет в Швеции и Дании, а средний возраст матери при рождении первого ребенка от 23 лет на Украине, 24 лет в России, Болгарии и Румынии до 29 лет в Швейцарии, Германии, Испании, Великобритании и Нидерландах (приведены данные официальной статистики). Напомним, что еще в конце 1960-х – начале 1970-х гг. средние возраста регистрации брака и рождения первого ребенка слабо различались по европейским странам, включая и европейские республики бывшего СССР[22].
Интересно сравнить фактические значения среднего возраста вступления в первый брак и рождения первого ребенка (по данным официальной регистрации за последние годы) со средними значениями идеального возраста для тех же событий, полученными по результатам обследования ЕСС в тех же странах (рис.5 и 6).
Связь между «идеальным» возрастом брака, идеальным возрастом рождения первенца по данным опросов, с одной стороны, и фактическими средними возрастами наступления этих событий по данным демографической статистики, с другой стороны, оказывается очень сильной – коэффициент линейной корреляции «идеального» и фактического брачных возрастов по странам составил 0,7, а «идеального» и фактического возраста материнства – 0,8. Следует также отметить, что во всех странах идеальный возраст рассматриваемых событий ниже фактического среднего возраста. Объяснение заключается в том, что чем моложе респондент, тем он более склонен демонстрировать предпочтительность более позднего начала формирования семьи: двадцатилетние респонденты во всех странах указывают в качестве оптимального возраста для начала брачной жизни величину примерно на два года больше, чем их бабушки и дедушки (т.е. респонденты в возрастах 60 лет и старше) - рис.7. Поскольку именно двадцатилетние определяют текущую ситуацию с брачностью, то и фактический средний возраст вступления в брак по данным официальной регистрации выше, чем «идеальный» возраст, средняя величина которого для всех опрошенных занижается старшими когортами, сохранившими прежние представления о желательности более раннего брака. Точно такая же ситуация и с возрастом рождения первенца.
Итак, один из важных выводов заключается в том, что фактическое матримониальное и репродуктивное поведение тесно связано с идеальными представлениями населения о том, когда лучше обзаводиться семьей и детьми, и определяющим здесь оказывается собственное мнение поколений, осуществляющих эти действия, т.е. молодежи, а мнения родителей и, тем более, прародителей, опирающихся на собственный прошлый опыт - влияет на эти действия меньше.
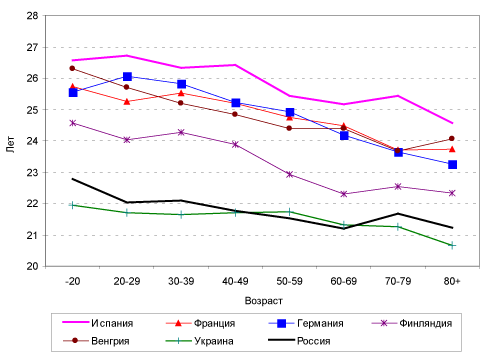
Рисунок 7. «Идеальный» возраст вступления в брак для женщины по возрастным группам опрошенных в России и некоторых других странах
Источник: Расчеты автора по данным ЕСС
Возраст, по достижению которого девушка/женщина должна покинуть родительский дом, венчающий период взросления – наиболее сложный для интерпретации нормативный параметр жизненного цикла. Дело не только в том, что, например, в странах Восточной и Южной Европы, как известно, еще сохраняется некоторая распространенность сложных семей, когда под одной крышей могут уживаться несколько поколений: родители с взрослыми детьми, уже состоящими в браке и имеющими, в свою очередь, малолетних детей. Нужно еще иметь в виду, что, когда речь идет о девушке или молодой незамужней женщине, то встает еще один вопрос: в какой мере действующие традиции и общественное мнение позволяют молодым девушкам и одиноким женщинам проживать самостоятельно, т.е. без родителей или мужа[23]?
Вековые традиции по всей Европе были настроены против такой практики, и сегодня они еще кое-где поддерживаются. По этой причине нас не должно удивлять, что в целом ряде стран большинство респондентов оказалось не готово ответить на вопрос: «после какого возраста наступает время, когда женщина, как правило, выходит из того возраста, чтобы жить со своими родителями?». Так, в Болгарии, Латвии, Румынии, Португалии, Эстонии, Венгрии, Ирландии, Польше, в лучшем случае, лишь половина респондентов при ответе на данный вопрос указали конкретный возраст. В России, Украине, Словакии, Словении и Австрии процент тех, кто смог определиться с возрастом ухода из-под присмотра родителей, не многим выше – около 60%. Более того, в Эстонии, Венгрии, Ирландии, Латвии, Польше, Португалии, Румынии и Словакии 30-40% респондентов считают, что «никогда» не наступает время, когда женщина выходит из того возраста, чтобы жить с родителями (табл.2). В России, как и в большинстве стран Восточной Европы (с примыкающей Австрией), респонденты вопросом об обязательном покидании родительского дома для женщины оказались застигнутыми врасплох: процент затруднившихся с ответом или отказавшихся отвечать, очень высок - до одной пятой от числа опрошенных.
С другой стороны, в странах на западе и севере Европы традиции «запирания невесты в светлице» уже давно забыты – в Бельгии, Швейцарии, Дании, Финляндии, Нидерландах, Швеции - более 80%, во Франции и Норвегии более 90% респондентов согласны с тем, что после определенного возраста женщине «засиживаться» в родительском доме уже «неприлично», даже если (наше предположение) она и не вышла замуж.
Таблица 2. Распределения ответов на вопрос: «Как Вы считаете, после какого возраста наступает время когда женщина, как правило, уже выходит из того возраста, чтобы жить со своими родителями?», %
| Указали конкретный возраст | «Никогда» не наступает | Затруднились с ответом или отказались отвечать | Всего | |
| Австрия | 62,1 | 19,1 | 18,8 | 100 |
| Бельгия | 83,6 | 12,6 | 3,7 | 100 |
| Болгария | 37,9 | 41,7 | 20,4 | 100 |
| Швейцария | 81,5 | 11,4 | 7,1 | 100 |
| Кипр | 71,3 | 19,6 | 9,1 | 100 |
| Германия | 81,7 | 8,4 | 9,9 | 100 |
| Дания | 88,0 | 5,9 | 6,1 | 100 |
| Эстония | 53,5 | 28,5 | 17,9 | 100 |
| Испания | 72,1 | 18,1 | 9,8 | 100 |
| Финляндия | 80,1 | 14,5 | 5,4 | 100 |
| Франция | 92,3 | 2,9 | 4,8 | 100 |
| Великобритания | 70,2 | 22,8 | 6,9 | 100 |
| Венгрия | 55,2 | 35,4 | 9,4 | 100 |
| Ирландия | 52,9 | 32,1 | 15,0 | 100 |
| Латвия* | 38,9 | 45,9 | 15,2 | 100 |
| Нидерланды | 85,4 | 10,9 | 3,7 | 100 |
| Норвегия | 90,6 | 5,3 | 4,2 | 100 |
| Польша | 54,6 | 32,4 | 13,0 | 100 |
| Португалия | 48,0 | 40,4 | 11,6 | 100 |
| Румыния* | 46,5 | 31,7 | 21,8 | 100 |
| Россия | 60,9 | 15,6 | 23,4 | 100 |
| Швеция | 82,7 | 10,3 | 7,1 | 100 |
| Словения | 63,8 | 25,0 | 11,2 | 100 |
| Словакия | 58,0 | 30,0 | 12,0 | 100 |
| Украина | 59,5 | 23,7 | 16,8 | 100 |
| Все страны | 67,1 | 21,3 | 11,6 | 100 |
Итак, при международных сравнениях расчетной оценки среднего возраста «обязательного» покидания родительского дома для девушки следует соблюдать большую осторожность – доля указавших конкретный возраст, и, соответственно, участвующих в расчетах средней величины, сильно различается по странам в зависимости от того, сохраняется или нет для девушки традиция ухода из родительского дома исключительно «под венец».
В то же время, представляется очевидным, что господствующая в прошлом традиция обязательного проживания незамужней женщины в родительском доме повсеместно размывается в Европе, хотя этот процесс идет на севере и юге, на западе и востоке с разной скоростью[24]. Возраст расставания с родителями уже не задается идеальным возрастом замужества, на что, в частности, указывает отсутствие по странам корреляционной зависимости между этими двумя переменными. Более позднее завершение образования, «постарение» идеальной возрастной модели брачности и рождаемости, вероятно, отодвинули нормативный порог выделения детей из родительской семьи. Однако, ввиду отсутствия для сравнения соответствующих данных за предшествующие периоды, мы не можем с достоверностью об этом судить.
Заметим, что в России и на Украине средний возраст, когда женщине, по мнению респондентов, следует покинуть родительский дом, – 24,3 и 23,4 лет, не намного превышает средний идеальный возраст брака (21,8 и 21,4), причем, как уже было показано, наиболее ранний из всех стран. В большинстве стран считается нормальным, если девушка «задержится» в родительском доме до 26-29 лет, а в ряде стран до 30 и более лет, что разводит возраста «идеального брака» и покидания родителей на существенно большую величину, чем в России и на Украине.
Рассмотрев выше «идеальную» хронологию социально-демографических событий, связанных с процессом вхождения девушки во взрослую жизнь, мы обнаружили ряд странностей и противоречий. Так, завершение образования, в целом ряде стран позиционируется как событие, находящееся за возрастным порогом наступления взрослости, как будто учащийся во всех случаях уже обладает «социальной зрелостью, жизненным опытом и экономической независимостью», а обретение постоянного партнера для «сексуальных игр», в результате которых, между прочим, случаются и вполне взрослые ситуации, требующие «ответственного и самоуправляемого поведения» (выбор контрацепции, беременности, роды, аборты) – напротив, представляется как событие еще не взрослой жизни. Рассогласование, нарушение традиционной последовательности в календаре процесса взросления современной девушки налицо. С одной стороны, оставаясь «юной», уже можно делать то, что раньше дозволялось только взрослым – жить с мужчиной (или еще с «мальчиком»?), а с другой – формально («по возрасту»), считаясь «взрослой», продолжать учиться, не обременяя себя узами официального брака и детьми. Конфликтное пересечение возрастной относительности ключевых событий в жизненном цикле особенно выпукло выглядит для России и некоторых ее соседей по Восточной Европе. Одна из важных причин – существенно более позднее начало в этих странах, по сравнению со странами западнее «берлинской стены», трансформационных изменений возрастных моделей сексуальных и брачно-партнерских отношений. Общественное мнение еще не готово однозначно принять эти изменения в массовых практиках как данность, рационально соотнести их с подвижками в образовательных стратегиях, и, соответственно, сформировать новое, менее противоречивое нормативное представление о возрастной последовательности событий в жизни женщины.
В наше поле зрения попала интернет-конференция на одном из российских молодежных сайтов, на которой обсуждалась та же тема, что и в данной статье – что есть «взрослость». Послушаем, как определяют это состояние наши молодые современники[25]:
- «взрослость - это осознание того, что просто так кусок хлеба с неба не свалится …осознание своей ответственности за семью/любимого/ребенка» (Анфиска);
- «взрослость - это когда уже ни от кого не зависишь ни материально, ни духовно» (~T Mac~);
- «взрослость - это сформировавшийся и устоявшийся внутренний мир, образованность, грамотность, воспитанность» (Anti_Freez);
- «взрослость - это когда человек самостоятелен… и имеет на все свою точку зрения, которую способен отстоять» (Acid_Trauma);
- «взрослость - это когда вы сами оплачиваете жилье, продукты, одежду, решаете все повседневные и жизненные задачи и вопросы. Без мамы, папы…» (WITCHER26);
- «”взрослый” будет и в полуторке (имеется в виду квартира, а не грузовик 30-х гг. – С.З.) с двумя детьми счастлив, а “ребенок “ – и в собственном дворце плакаться о своей нелегкой судьбе» (Dice).
Итак, перед нами достаточно детально описанный образ взрослого человека, полностью удовлетворяющего расхожему определению, вынесенному в эпиграф. Подавляющее большинство участников определяли взрослого человека в точном соответствии с трафаретным определением, воспроизводимым в различных вариациях в специальной и учебной литературе по социальной и возрастной психологии и педагогике: как «социально сформировавшуюся личность, способную к самостоятельному и ответственному принятию решений, субъекта общественно-трудовой деятельности, ведущего самостоятельную жизнь: производственную, общественную, личную». Не часто встречается столь очевидное единодушие обыденного и научного сознания.
И все-таки в общем хоре в равной степени правильных и банальных суждений нашлось мнение одной девушки, которое представляется настолько важным по сути рассматриваемой проблемы, что позволю себе привести его полностью.
«Извините, я может немного не по теме, но... очень хочется поделиться... Что значит - я повзрослел? Я не считаю себя совсем "взрослым" человеком, хотя отдаю отчет своим поступкам и прочее, но... кто-то тут писал, что главное - это внешний вид, то, как тебя воспринимают окружающие. Я с этой точкой зрения не согласна. Но недавно решила, все таки возраст (как никак уже 19 и все такое), одним словом, пора выглядеть серьезнее... немного "сменила имидж", и... смотрю на себя в зеркало... вроде бы вот и каблучок, вот тот женственный силуэт... словом девушка, но это не я... мне в тот момент очень грустно стало, я поняла, что действительно уже не та девочка, что качалась на качелях во дворе и играла в догонялки на переменах... в этом "образе взрослого человека" мне не очень комфортно... На следующий день я вновь одела башмаки на плоском ходу, старую любимую куртку, и, наверное, на моем лице было безграничное счастье, т.к. прохожие оборачивались и смотрели мне вслед... Все это я написала к тому, что (опять же повторюсь, как мне кажется) нужно оставлять в себе чуточку того маленького мальчика или девочки, которыми мы когда-то были... Многие стремятся скорее повзрослеть, стать сильными и независимыми ни от кого… и это правильно и хорошо, но, я думаю, не стоит так сильно торопиться... Сейчас все чаше вспоминаю детство и хочу туда вернуться... может быть это и есть та самая степень моего взросления?(funny)
В этом искреннем высказывании, помимо не столь уж неожиданных для переходного возраста переживаний на тему поиска «я» в собственном зеркале, нас заинтересовало, как можно догадаться, точное указание возраста, в котором девушку настигло осознание того самого нормативного порога «взрослости», через который она уже одной ногой перешагнула («пора выглядеть серьезнее»), но еще чувствует себя неуверенно на «взрослых» каблуках. Ей - «уже 19», и, следовательно, нормативный возрастной порог, за которым осталось детство, в которое хочется вернуться, пролегает где-то рядом, может быть на одну ступеньку ниже – на уровне 18 лет, или выше – 20 лет?
Приведенные высказывания юношей и девушек равносильны записям на полях, предназначенных для ответов на «открытый вопрос» в вопросниках. Обращает на себя внимание, что приводимые в них содержательные определения взрослого человека не слишком соответствуют возрастной границе взрослости, оцененной с помощью средней величины на данных исследования ЕСС (19-20 лет). Очевидно, что статус взрослого человека, удовлетворяющий критериям, распространенным в массовом сознании (и, тем более, приводимым в специальной литературе), приобретается в более позднем возрасте. Логично предположить, что существуют, по крайней мере, две возрастные индентификации обретения взрослого статуса, а не одна, подобно тому, как мы замеряли возрастные границы вступления в брак («минимально допустимый» и «идеальный» для данной эпохи): а) возраст, начиная с которого социальные нормы (включая юридически-правовые), требуют или ожидают от индивида быть взрослым; б) возраст, в котором индивид вполне осознанно совершает поступки, которые общество расценивает как поступки взрослого человека («идеальный» взрослый). Очевидно, что вторую характеристику эмпирически замерить намного сложнее, чем первую - она исторически более подвижна, менее определенна на индивидуальном и социальном уровне.
Вернемся к данным ЕСС и постараемся разобраться, что же фактически мы замеряем ответами на ключевой вопрос: «Примерно в каком возрасте, на Ваш взгляд, девочки, девушки или женщины становятся взрослыми?»
На рис.8 представлены детальные (по однолетним возрастным группам) распределения ответов на поставленный вопрос во всех странах. Обращает внимание наличие нескольких модальных возрастов, из которых доминирует 18-летняя норма, но и 20-летняя норма ей не слишком уступает. Еще одна мода в 25 лет, хотя и не слишком выражена, но также заслуживает внимание. В результате расчетные средняя арифметическая и медиана (обе около 19 лет) оказываются «проваленными» между двумя модами – респонденты, выбравшие 19-летний порог взрослости, составляют едва различимое статистическое меньшинство во всех странах (в среднем около 5%). Такие средние величины со времен Коррадо Джинни величают фиктивными средними, т.е. когда варианта равная средней величине не обладает признаком типичности. Появляется подозрение, что статистические совокупности, с которыми мы столкнулись, сильно неоднородны даже на национальном уровне. Видимо, респонденты, по сути, отвечали на «разные вопросы» (по-разному понимали поставленный вопрос). Заметим, что ни с одной другой возрастной характеристикой жизненного цикла, рассматриваемой в данной статье, такие проблемы не возникали.
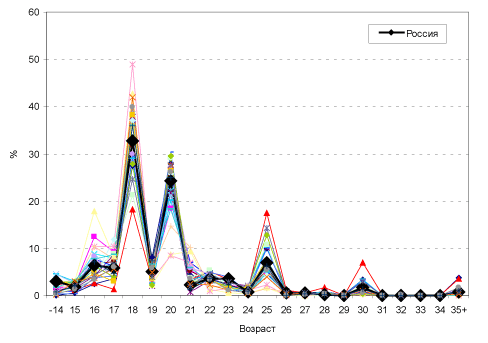
Рисунок 8. Распределение по возрасту обретения статуса взрослого для женщин в России и других странах
Источник: Расчеты автора по данным ЕСС
Вполне логично предположить, что респонденты, выбравшие 18-летний возраст (от 14% в Болгарии до 44% в Ирландии), скорее всего, ориентировались на возраст официально признаваемого совершеннолетия (к примеру, во всех европейских странах нижний электоральный возраст установлен именно на этой планке), и не сильно задумывались над тем, может ли среднестатистическая 18-летняя девушка в той или иной стране считаться в полной мере самостоятельной личностью (взрослой по существу). Косвенным подтверждением нашей гипотезы может служить такой показатель, как доля респондентов, выбравших подсказы «Это зависит от обстоятельств» и «Затрудняюсь ответить», допускаемые при ответе на данный вопрос. Эта доля в подавляющем большинстве стран на удивление низка для такого непростого вопроса (табл. 3). Неопределенностью ответов выделяются лишь Болгария, Латвия и Австрия, в которых от 1/4 до 1/3 опрошенных не смогли определиться с конкретным возрастом (в России показатель несколько выше среднего уровня – 20%, из которых 13% составляют те, кто сослался на зависимость ответа от «обстоятельств»).
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Примерно в каком возрасте, на Ваш взгляд, девочки, девушки или женщины становятся взрослыми?», %
| Указали конкретный возраст, в том числе: | «Это зависит от обстоятельств» | Затруднились с ответом или отказались отвечать | Всего | |||||
| До 18 | 18 | 19-20 | 21+ | Всего | ||||
| Австрия | 4,8 | 20,0 | 26,3 | 21,8 | 72,9 | 21,1 | 6,1 | 100 |
| Бельгия | 24,1 | 31,2 | 21,9 | 19,0 | 96,2 | 3,7 | 0,1 | 100 |
| Болгария | 4,4 | 13,9 | 23,6 | 34,5 | 76,4 | 12,3 | 11,3 | 100 |
| Швейцария | 18,0 | 31,0 | 21,9 | 11,5 | 82,4 | 15,5 | 2,2 | 100 |
| Кипр | 14,0 | 33,8 | 21,3 | 20,2 | 89,3 | 9,3 | 1,4 | 100 |
| Германия | 16,1 | 27,4 | 25,7 | 17,1 | 86,3 | 10,5 | 3,1 | 100 |
| Дания | 12,8 | 28,3 | 24,9 | 19,8 | 85,8 | 12,1 | 2,0 | 100 |
| Эстония | 13,7 | 32,3 | 24,3 | 17,7 | 88,0 | 7,2 | 4,7 | 100 |
| Испания | 17,5 | 25,4 | 19,9 | 24,9 | 87,7 | 6,9 | 5,3 | 100 |
| Финляндия | 17,3 | 36,1 | 29,8 | 14,2 | 97,4 | 1,3 | 1,2 | 100 |
| Франция | 15,0 | 19,7 | 32,2 | 25,9 | 92,8 | -** | 7,2 | 100 |
| Великобритания | 30,4 | 40,3 | 10,3 | 13,4 | 94,4 | 3,6 | 2,0 | 100 |
| Венгрия | 18,4 | 33,9 | 22,6 | 13,3 | 88,2 | 9,1 | 2,9 | 100 |
| Ирландия | 22,8 | 44,0 | 10,7 | 12,5 | 90,0 | 5,9 | 4,1 | 100 |
| Латвия* | 10,9 | 21,8 | 22,9 | 17,1 | 72,7 | 23,4 | 3,9 | 100 |
| Нидерланды | 20,7 | 37,2 | 18,8 | 16,0 | 92,7 | 5,1 | 2,3 | 100 |
| Норвегия | 8,6 | 28,6 | 34,1 | 26,4 | 97,7 | 1,8 | 0,5 | 100 |
| Польша | 20,0 | 33,6 | 23,3 | 16,9 | 93,8 | 2,9 | 3,3 | 100 |
| Португалия | 13,2 | 23,0 | 26,2 | 20,7 | 83,1 | 13,6 | 3,4 | 100 |
| Румыния* | 11,6 | 34,2 | 26,6 | 16,9 | 89,3 | 7,2 | 3,4 | 100 |
| Россия | 13,9 | 26,3 | 23,5 | 16,8 | 80,5 | 13,2 | 6,3 | 100 |
| Швеция | 11,8 | 38,8 | 29,9 | 11,9 | 92,4 | 5,6 | 2,0 | 100 |
| Словения | 11,7 | 20,8 | 26,7 | 25,5 | 84,7 | 12,7 | 2,5 | 100 |
| Словакия | 10,0 | 35,9 | 28,8 | 15,3 | 90,0 | 6,0 | 3,9 | 100 |
| Украина | 12,1 | 30,3 | 27,3 | 14,4 | 84,1 | 12,0 | 3,8 | 100 |
| Все страны | 15,1 | 29,8 | 24,2 | 18,2 | 87,3 | 9,1 | 3,6 | 100 |
** Такой ответ не был предусмотрен в национальном вопроснике.
Итак, если столь многие респонденты уверены, что они точно знают, в каком возрасте для девушки наступает взрослая жизнь, то не замеряем ли мы данным вопросом нижнюю границу легитимного (формального), а не фактического наступления взрослости?
Еще больше нас в этом выводе убеждают ответы на вопросы, поставленные, чтобы прояснить, с какими событиями в жизни женщины ассоциируется наступление для нее взрослого статуса (табл. 4). Предлагалось последовательно оценить «важность» - «не важность» наступления следующих четырех событий: начать проживать отдельно от родителей, начать работать полный рабочий день, начать жить со своим мужем/партнером, стать матерью[26]. Заметим, что, если судить по средним величинам, то все указанные события наступают в «идеальном» календаре взрослеющей девушки позже, чем возраст, начиная с которого, по мнению респондентов, женщина может считаться взрослой.
Таблица 4. Какие события в жизни женщины должны произойти, чтобы считать ее взрослой? (доля ответивших «важно» и «очень важно», %).
| Начать жить отдельно от родителей | Начать работать полный день | Начать жить с партнером или мужем | Стать матерью | |
| Австрия | 42,1 | 42,1 | 23,2 | 24,1 |
| Бельгия | 28,2 | 39,7 | 19,8 | 28,4 |
| Болгария | 30,6 | 67,3 | 57,5 | 72,8 |
| Швейцария | 35,8 | 33,3 | 19,3 | 30,8 |
| Кипр | 37,2 | 52,8 | 39,9 | 53,1 |
| Германия | 36,4 | 33,3 | 26,6 | 39,0 |
| Дания | 54,0 | 33,9 | 21,6 | 44,7 |
| Эстония | 37,4 | 41,7 | 29,3 | 37,0 |
| Испания | 27,3 | 29,4 | 21,0 | 29,3 |
| Финляндия | 38,5 | 34,7 | 16,2 | 13,6 |
| Франция | 40,6 | 58,0 | 29,3 | 45,0 |
| Великобритания | 25,0 | 31,8 | 13,9 | 18,1 |
| Венгрия | 12,9 | 29,1 | 16,7 | 18,9 |
| Ирландия | 20,5 | 34,0 | 10,4 | 12,7 |
| Латвия* | 29,5 | 34,5 | 34,7 | 43,5 |
| Нидерланды | 24,1 | 19,6 | 12,7 | 14,5 |
| Норвегия | 38,1 | 21,4 | 6,7 | 9,4 |
| Польша | 27,5 | 42,3 | 38,1 | 51,3 |
| Португалия | 38,0 | 52,4 | 53,2 | 62,1 |
| Румыния* | 32,7 | 56,5 | 51,0 | 56,4 |
| Россия | 42,1 | 48,1 | 54,8 | 64,2 |
| Швеция | 33,0 | 15,4 | 5,8 | 7,9 |
| Словения | 26,9 | 40,3 | 21,8 | 29,7 |
| Словакия | 15,2 | 40,7 | 17,9 | 24,4 |
| Украина | 47,3 | 57,7 | 55,8 | 70,4 |
| Все страны | 33,4 | 38,8 | 26,7 | 34,7 |
При всех межстрановых различиях в оценках важности того или иного события, нельзя не отметить факта, что практически во всех странах хотя бы одно из указанных событий оценивается как важное для обретения женщиной взрослого статуса (доля ответивших, что данное событие «важно» и «очень важно» составляет 30% и более). Очень немного стран, для которых все рассматриваемые события представляются не очень важными (например, Нидерланды, Венгрия). В странах Восточной Европы, на Кипре, в Португалии и Франции большое значение придается созданию семьи и материнству, нередко, в сочетании с полной занятостью, а в странах Западной и Северной Европы акцент делается на начале трудовой карьеры, выделении из родительской семьи и меньше обращается внимание на важность взрослому человеку иметь семью. Интересно, что по важности материнства страны Северной Европы и Восточной Европы (с примкнувшими Португалией и Кипром) находятся на разных полюсах. В первой группе стран для того, чтобы называться взрослой, женщине совсем не обязательно становится матерью, а во второй, наоборот - крайне рекомендуется, и это притом, что сегодня рождаемость в Северной Европе существенно более высока, чем в Восточной Европе и Португалии.
Пара переменных «работать полный рабочий день» и «жить отдельно от родителей» логично положительно закоррелирована на межстрановом уровне. Нельзя отказать в логике и еще более высокой положительной связи между переменными «жить с мужем/партнером» и «стать матерью». В то же время, между парами этих закоррелированных переменных зависимость отсутствует (рис. 9). Получается, что Европа не однородна в том, с какими поступками на нормативном уровне связывается признание девушки взрослой: с материнством или с независимостью от родителей.
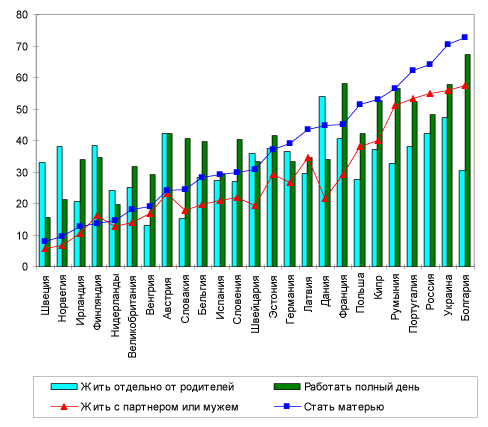
Рисунок 9. Доля респондентов, ответивших «важно» и «очень важно» на вопросы о событиях, которые в жизни женщины должны произойти, чтобы ее можно было бы считать взрослой: 1. «стала жить отдельно от родителей»; 2. «начала работать полный рабочий день»; 3. «стала жить со своим мужем или партнером»; 4. «стала матерью»
Примечание: Страны ранжированы по доле ответивших «важно» и «очень важно» женщине стать матерью, чтобы ее считать взрослой.
Источник: Расчеты автора по данным ЕСС.
Итак, мы фиксируем противоречие: респонденты ассоциируют наступление взрослости для женщины с событиями (трудовой карьерой, материнством), которые в современной Европе при нормальном развитии индивидуального жизненного цикла реально случаются в существенно более позднем возрасте, чем декларируемый респондентами средний возраст обретения женщиной взрослого статуса. Мы склонны объяснять это тем, что значительная часть респондентов на прямой вопрос о возрасте наступления взрослости ориентировалась в большей степени на формальную сторону дела – на юридически нормативный возраст обретения человеком гражданских прав (возраст совершеннолетия), т.е в данном случае неформальные нормы тяготеют к формально-правовым.
Для того чтобы окончательно убедиться в нашей гипотезе, выделим только тех респондентов, которые указали, что женщина может считаться взрослой с 18 лет, и рассмотрим как они ответили на вопрос о том, насколько важно для женщины работать полный рабочий день, чтобы считаться взрослой (табл.5). Известно, что средний возраст начала непрерывной трудовой деятельности для женщины в Европе в настоящий момент перешагнул за двадцатилетний порог. Следовательно, настаивая на 18-летнем пороге обретения девушкой статуса взрослого человека, респондент не должен был бы его ассоциировать с началом трудовой деятельности. В действительности, оказывается, что только в Швеции, Нидерландах и Норвегии, респонденты логичны в своих рассуждениях – женщине, ставшей взрослой в 18 лет, совершенно не обязательно (еще рано?) работать. Как тут не вспомнить о мощных социальных программах поддержки молодых безработных в этих странах. Ответы респондентов в других странах демонстрируют явное нарушение элементарной логики, ассоциируя наступление взрослости с полной занятостью: неужели каждый третий-второй респондент считает, что девушка становится взрослой женщиной в 18 лет, потому что в этом возрасте большинство женщин начинает трудовую карьеру? Столь явное незнание социальной реальности сомнительно.
Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Насколько важно, на Ваш взгляд, то, что женщина начала работать полный рабочий день, чтобы считать ее взрослой» для респондентов, указавших, что девочки/девушки/женщины становятся взрослыми в 18 лет
| «Совершенно не важно» и «Важно» | «Где-то посередине» | «Важно и очень важно» | Всего | |
| Австрия | 43,1 | 16,5 | 40,4 | 100 |
| Бельгия | 52,2 | 11,9 | 35,9 | 100 |
| Болгария | 22,7 | 13,6 | 63,7 | 100 |
| Швейцария | 52,4 | 14,5 | 33,1 | 100 |
| Кипр | 32,9 | 12,6 | 54,5 | 100 |
| Германия | 47,7 | 20,1 | 32,2 | 100 |
| Дания | 52,7 | 15,9 | 31,4 | 100 |
| Эстония | 47,2 | 13,9 | 38,9 | 100 |
| Испания | 54,7 | 9,9 | 35,4 | 100 |
| Финляндия | 45,3 | 22,5 | 32,2 | 100 |
| Франция | 31,6 | 11,4 | 57,0 | 100 |
| Великобритания | 53,6 | 18,3 | 28,1 | 100 |
| Венгрия | 59,3 | 11,6 | 29,1 | 100 |
| Ирландия | 56,0 | 12,5 | 31,5 | 100 |
| Латвия* | 31,1 | 22,6 | 46,3 | 100 |
| Нидерланды | 71,6 | 9,6 | 18,8 | 100 |
| Норвегия | 61,6 | 18,4 | 20,0 | 100 |
| Польша | 47,0 | 13,5 | 39,5 | 100 |
| Португалия | 28,2 | 22,9 | 48,9 | 100 |
| Румыния* | 27,2 | 15,8 | 60,0 | 103 |
| Россия | 30,7 | 18,8 | 50,5 | 100 |
| Швеция | 68,8 | 18,6 | 12,6 | 100 |
| Словения | 47,9 | 9,5 | 42,6 | 100 |
| Словакия | 43,5 | 11 | 45,5 | 100 |
| Украина | 21,2 | 14,7 | 64,1 | 100 |
| Все страны | 48,2 | 15,4 | 36,4 | 100 |
Такую же проверку логичности рассуждений респондентов, настаивающих на 18-летнем пороге взрослости, мы провели и в отношении важности материнства. Результат практически тот же: 30-40% респондентов в Германии, Франции, Дании, Испании и Бельгии, 50-70% - в Восточной Европе, Португалии и на Кипре из числа указавших столь ранний порог взросления, настаивают на том, что для того, чтобы быть взрослой, надо стать матерью. И это притом, что возраст матери при рождении первого ребенка в Европе уже очень высок – больше 25 лет для большинства стран (в России, Румынии и Украине – 24 года - самый низкий в Европе). Опять же, только жители скандинавских стран последовательны в своем выборе, и те из них, кто декларирует 18-летний порог взрослости для девушки, не требуют от нее рождения ребенка для приобретения социально зрелого статуса.
Итак, у нас есть все основания полагать, что в ответах на прямой вопрос о возрасте, по достижении которого женщина может считаться взрослой, очень многие респонденты в различных странах имели в виду признание (или знание?) существующей возрастной границы обретения девушками нового правового статуса – возраста дееспособности (совершеннолетия), дающего права на принятие самостоятельных решений, а не наиболее распространенный возраст достижения взрослого состояния per se.
В рамках очередной волны сравнительного Европейского социального исследования, проведенного в 2006-2007 годах, была предпринята в целом удачная попытка оценить кросс-культурную вариабельность «возрастных символов» - ценностно-нормативных представлений, регулирующих процесс перехода индивида из юношеского состояния во взрослое в современном обществе. Отталкиваясь от принципа многокритериальности данного процесса, разработчики программы включили достаточно широкую палитру вопросов, позволившую впервые на репрезентативном уровне и одновременно в различных странах количественно оценить возрастные параметры «идеального» расписания целого ряда событий, символизирующих смену социально-возрастного статуса.
В данной статье внимание было сконцентрировано на изучении общественного мнения относительно возрастных параметров основных событий для девушек в период их взросления. К каким же выводам мы пришли?
1. Европейские страны, безусловно, не представляют собой единообразную модель как в смысле идеального календаря событий, связанных с вхождением девушки во взрослую жизнь, так и в смысле конкретных ключевых событий, с которыми ассоциируется завершение этого процесса. Является ли наблюдаемая дифференциация стран следствием стадиальных различий в рамках общего для развитых стран переходного процесса к некоему «новому» расписанию человеческой жизни или следствием изначально присущих историко-культурных особенностей в каждой стране (группе стран), остается дискуссионным вопросом. По-видимому, как чаще всего бывает, мы имеем дело с проявлениями обоих дифференцирующих моментов в социальной динамике.
2. На межстрановом уровне менее всего различаются социально «невозбраняемые» возраста добрачных межличностных отношений, когда уже можно иметь сексуальные отношения (16,7-19,1 года), проживать с партнером без регистрации брака (18,9-21,5 года), произвести на свет первенца (19,4-22,2 года) – для этих событий минимаксный разброс средних значений по странам составляет менее 3-х лет. Итак, вся Европа, по сути, едина в том, что в интервале от 18 до 21 лет в настоящий момент находится возрастная норма обретения опыта сексуальных отношений, в результате которых допускается, что может появиться и ребенок (вероятнее всего в результате незапланированной беременности). Следует особо подчеркнуть, что в России для данных событий возрастная норма очень близка к среднеевропейской.
3. Различия между странами увеличиваются, когда речь заходит об этапе жизненного цикла, на котором сексуальные отношения перерастают в серьезные межличностные отношения, имеющие экономические и правовые последствия. Возрастная норма, когда можно «начинать задумываться» о браке (можно вступать в брак, как это сформулировано в вопроснике), лежащая в интервале 19,1-22,8 года, и одобряемый (идеальный) возраст начала жизни с партнером без заключения брака (20,5-24,3 года) создают в значительное степени пересекающееся в возрастном диапазоне событийное пространство. Традиционная норма, что совместную/супружескую жизнь надо начинать именно с брака, очевидно, безвозвратно ушла в прошлое во всех странах, в том числе и в России, для которой средний возраст, когда можно вступать в брак, и средний идеальный возраст начала совместной жизни с партнером без регистрации брака, статистически едва различимы (соответственно, 20,1 и 20,5 года). Выбор формы семейной жизни, по крайней мере, на ее стартовом отрезке, становится все более равновероятным по факту[27], и общественное мнение относится к этому все более толерантно.
Существенно большую неоднородность мнений демонстрируют представители разных стран в отношении вопросов о социально одобряемых, идеальных возрастах для замужества и материнства. Разброс средних значений на межстрановом уровне достигает почти 5 лет: идеальный возраст брака находится в интервале 21,4-26,2 года, идеальный возраст для рождения первенца – 22,7-27,3 года. Поскольку известно, что сегодня во всех странах повышается фактический возраст вступления в брак и материнства, но процесс этот начался не одновременно (с разрывом в два десятилетия), различия в предпочтениях относительно возрастных моделей формирования семьи, скорее всего, также носят в основном стадиальный характер. В России и на Украине усредненная норма все еще тяготеет к достаточно раннему возрасту замужества и материнства, в результате чего именно эти страны во всем континууме стран очерчивают нижнюю границу варьирования. В то же время и в этих странах, как и во всей Европе, молодежь предпочитает формировать семьи в более позднем возрасте. Так что прогноз очевиден – возрастная модель брака и рождаемости будет продолжать повсеместно стареть, и завершение этого процесса пока не просматривается даже в наиболее продвинутых странах.
4. Особо следует сказать о возрастной норме завершения образования. В соответствии с формулировкой вопроса речь идет о нижней границе возраста, ранее которого не следует покидать стены образовательных учреждений. К сожалению, программа обследования не позволяет более детально изучить мнения о возрастных пределах получения образования. Так, возможность задать вопрос о наилучшем возрасте завершения образования, дополненного вопросом о желательном классификационном уровне образования, была бы чрезвычайно полезной.
Полученные результаты представляются столь же интересными, сколь и дискуссионными. Дело не только в том, что допустимые возраста завершения образования демонстрируют высокую вариабельность в Европе (от 17,6 до 22,4 года, т.е. разброс практически равен 5 годам), но и в том, что позиционируется это событие в общем событийном ряду жизненного цикла по-разному в разных странах. В целом ряде стран нормативные возрастные пределы получения образования для девушки конфликтуют с наилучшим периодом, отведенным ей для замужества и рождения первенца. Так, в России, где, по результатам опроса, образовательные притязания едва ли не самые высокие в Европе, 22% опрошенных указали допустимый возраст завершения образования для девушки более высокий или равный ими же декларируемому идеальному возрасту рождения первенца. По-видимому, дилемма «учиться» или «жениться» в странах, подобных России, на сегодняшний день составляет основу для наиболее острого конфликта в формировании массовой идеальной модели жизненного пути, отвечающей изменившимся социальным условиям. В западноевропейских странах выбор в пользу получения профессионального образования уже отодвинул формирование семьи на более поздний возраст, в результате чего сложилась более логичная, более рациональная, с социально-экономической точки зрения, модель событийного ряда. В то же время и она не лишена противоречий.
5. Удлинение периода обучения, более позднее начало трудовой деятельности (нередко усиленное безработицей) расшатали несущие конструкции прежнего канона взрослости, зафиксированного в массовом сознании и в теории. Так, по нашим расчетам в 11 странах (из 25) расчетный средний возраст, когда можно завершать образование, получился выше среднего возраста, начиная с которого респонденты полагают, что женщина может считаться взрослой. Выделение из родительской семьи, отмечаемое во многих странах в качестве ключевого параметра обретения девушкой взрослого статуса, имеет наиболее широкие границы возрастного норматива – жить с родителями не пристало в одних странах в 23 года, а в других – в 33 года. Однако во всех странах без исключения можно оставаться с родителями, имея формальный статус «взрослого человека». Все это говорит о том, что необходимость пересмотра социокультурной матрицы «возрастных символов» становится актуальной задачей современного общества. Серьезность вызовов для всей системы «социального государства» (“welfare state”), в немалой степени опирающейся на идею возрастной стратификации, очевидна.
6. Единообразия в том, кого можно считать взрослым человеком, в Европе не наблюдается: в 6 странах в качестве ведущего критерия указывается на отдельное проживание женщины от родителей, в 11 странах – на ее работу в режиме полной занятости, в 9 – на материнство. Замужество и отдельное проживание с партнером во всех странах отмечается как сопутствующий критерий, однако важность его также значительно варьирует по странам. При всей мозаичности образа «взрослости» и логически-временной взаимосвязанности событий, с которыми ассоциируется обретение этого статуса в Европе, условно можно выделить два ведущих вектора событийного ряда, к которому в разной степени тяготеют страны. В одних странах преобладают представления об экономической и пространственной независимости девушки от родителей (наиболее четко это просматривается в скандинавских странах), в других – создание семьи и обретение обязанностей по воспитанию собственных детей (что наиболее сильно выражено в восточноевропейских странах). Вопрос о возможной переходности модели, сложившейся на сегодняшний день в России и близких к ней странах, остается дискуссионным и требует дальнейших углубленных исследований. В то же время во всех странах без исключения возраст обретения легитимно-правового статуса «взрослого» человека потерял связь с теми событиями, с которыми принято ассоциировать поведение взрослого человека. Возможно, формулировка вопроса в исследовании о том, «в каком возрасте девочки/девушки/женщины становятся взрослыми», оказалась не совсем удачной, и ее надо пересматривать, если задача состоит в том, чтобы отделить неформальные возрастные нормы от формально-правовых.
7. Главная специфика России (и родственной ей Украины) заключается в особо высокой концентрации событий, с которыми связывается процесс взросления, на коротком временном отрезке жизненного пути (в чрезвычайно узком возрастном интервале). На среднем уровне от обретения опыта сексуальной жизни до выделения из родительской семьи, по мнению респондентов, должно проходить в России менее 6 лет, а на Украине – менее 5 лет (оценка на основе расчета средних возрастов для указанных событий). Среднеевропейский интервал (при исключении России и Украины) – 11 лет, т.е. почти вдвое длиннее. Означает ли это, что россиянки и украинки сегодня взрослеют раньше и быстрее, чем в остальной Европе? И да, и нет. Взрослые обязанности, связанные с замужеством и материнством, которые сваливаются на голову женщине в раннем возрасте в этих странах, с одной стороны, приводят к раннему приобщению к высоко ответственным социальным практикам, с другой стороны, частичная или полная зависимость от родительского и государственного патернализма в выборе жизненных стратегий становится для них неизбежной. Требования, предъявляемые сегодня российским обществом к социальной политике, зачастую, выходят за рамки возможности государства[28]. Едва ли сложившаяся ситуация отвечает интересам современной молодежи и государства, претендующего на повышение динамизма социально-экономического развития. В связи с этим, представляется, что происходящая перенастройка идеального календаря, в первую очередь, демографических событий, в России будет продолжена. Подталкивать к изменению возрастных норм создания семьи и деторождения будут отмечаемые исследователями[29] (Магун и др. 1998; Магун и Энговатов 2004) возросшие притязания к уровню образования и экономическому базису собственного благополучия в целом[30].
1. Иванов С. Новое лицо брака в развитых странах http://demoscope.ru/weekly/2002/067/tema01.php
2. Сакевич В. Сексуальное и репродуктивное поведение подростков в России http://demoscope.ru/weekly/013/tema01.php
3. Денисенко М. Российский студент в интимной жизни http://demoscope.ru/weekly/2006/0259/tema01.php
4. Кон И. Сексуальная культура российских мальчиков http://demoscope.ru/weekly/2005/0205/analit06.php
5. Кон И. Подростковая и юношеская сексуальность http://demoscope.ru/weekly/2006/0259/analit08.php
6. Палилова И. Совершеннолетние дети и родительская семья: вместе или отдельно? http://demoscope.ru/weekly/2006/0259/analit05.php
7. Голод С. Отношение молодежи к нелегитимной сексуальности по опросам 1965-1999 годов http://demoscope.ru/weekly/2006/0259/analit02.php
Примечания
[1] Цитата взята из первого, попавшегося под руку учебника, доступного в Интернете: Змеёв С.И. Андрагогика: теоретические основы обучения взрослых. М., 2000
[2] Кон. И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989.
[3] Кон И.С. Психология юношеского возраста: Проблемы формирования личности. М.: Наука, 1979; Кон. И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989.
[4] Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII – XX вв.). Пер. с нем. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997.
[5] См., например, подробный критический обзор различных возрастных периодизаций в работе: Болотова А.К. 2007, с.57-85.
[6] Inglehart R. 1990. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton, NJ: Princeton University Press; Beck U. 1992. Risk Society. Towards a New Modernity. London: Sage; Lesthaeghe R. (Ed.). 2002. Meaning and Choice: Value Orientations and Life Course Decisions. NIDI Monograph Nr. 37. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute.
[7] Heckhausen J. 1999. Developmental regulation in adulthood: Age-normative and sociostructural constraints as adaptive challenges. New York, NJ: Cambridge University Press.
[8] Абульханова-Славская К.А. Типология активности личности //Психологический журнал. 1985. Т.6, №5; Giddens A. 1991. Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press; Clausen J.A. 1993. American Lives: Looking Back at the Children of the Great Depression. Berkeley, CA: University of California Press.
[9] Данный модуль был разработан под руководством F.Billari (Università Bocconi, Italy). Теоретическое обоснование программных вопросов, подготовленное разработчиками в форме заявки, представлено на официальном сайте программы ESS: “The Timing of Life: The Organization of the Life Course in Europe”. http://www.europeansocialsurvey.org/index.php?option=com_content&view=article&id=220:r3-rotating&catid=116:questionnaire&Itemid=309
[10] Европейское Социальное Исследование (ESS) - академический проект, целью которого является попытка описать и объяснить взаимосвязь между изменениями, которые сейчас происходят в социальных институтах Европы, и установками, верованиями и ценностями, а также поведением различных групп населения Европы. Регулярное исследование проводится методом выборочного опроса населения одновременно во всех странах-участницах. Осенью 2008 года проведена 4-я волна этого исследования, в которой приняли участие 25 стран. Россия участвовала в 3-ей (2006 г.) и 4-ой волне (2008 г.). Руководство проектом на международном уровне осуществляется Координационным Советом во главе с Р.Джоуэлом (Центр Сравнительных социальных исследований, Сити Университет, Великобритания, см.: http://www.city.ac.uk/sociology/ccss/Projects.html). Финансовая поддержка проекту оказывается Европейской комиссией и Европейским научным фондом. Данные опросов по всем странам находятся в открытом доступе: http://www.europeansocialsurvey.org/
В России руководство проектом осуществляет Научный совет, включающий представителей ведущих исследовательских центров. Координатор российского проекта - Институт сравнительных социальных исследований (директор ИССИ - В.Г.Андреенков), директор проекта ESS-Россия – Н.В.Андреенкова (зам. директора ИССИ). Российское исследование 2008 г. получило финансовую поддержку РГНФ. Подробнее о проекте см.: http://www.ess-ru.ru/index.php?id=341
[11] Rindfuss R.R. 1991. The Young Adult Years: Diversity, Structural Change, and Fertility. Demography, 28(4): 493-512; Billari F., Liefbroer A. 2007. Should I stay or should I do? The impact of age norms on leaving home. Demography, 44(1): 181-198.
[12] Hockey J. 2009. The life course anticipated: gender and chronologisation among young people. Journal of Youth Studies. 12(2): 227-241.
[13] На интересующие нас вопросы ответило более 23000 респондентов обоих полов из 25 стран (от приблизительно 500 человек на Кипре до более 1400 в Германии и 1139 в России). Это примерно половина от общего числа респондентов. Методика проведения опроса предполагала, что половина респондентов – мужчин и женщин - отвечает на все вопросы данного блока, но применительно к женщинам, а другая половина отвечала на те же вопросы применительно к мужчинам.
[14] Вопрос ставился следующим образом: «До какого возраста женщина, как правило, еще слишком молода, чтобы начинать сексуальные отношения?» Для получения оценки социально одобряемого возраста возможного начала сексуальной жизни (показанного на рис.1 и в таблице Приложения), к рассчитанному среднему возрасту, полученного непосредственным счетом по результатам ответов, прибавлялся 1 год. Таким способом мы условно переводили стрелки «часов» жизненного цикла на один год вперед, чтобы получить ответ на не поставленный прямо вопрос: «Начиная с какого возраста, можно (уже не рано) начинать сексуальные отношения?». Этот же прием был использован для аналогично поставленных вопросов, в которых использовалась конструкция «слишком молода». Тем самым была достигнута универсальность в построении «идеальной» (желательной), по мнению респондентов, возрастной последовательности наступления рассматриваемых событий. Возможно, кому-то обоснованность данной процедуры покажется спорной, хотя она нередко используется на практике. Желающие вернуться в исходное состояние, могут выполнить обратное действие, отняв один год от всех, аналогично построенных средних величин.
[15] Так, по данным 10-й волны РЭМЗ/RLMS (2001), для всех опрошенных в возрасте от 14 до 49 лет средний возраст начала половой жизни составил 18,5 лет. См.: Мониторинг сексуального поведения населения Российской Федерации. Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения 2001г. Университет Северной Каролины в Чэпел Хилле, Институт социологии РАН. Апрель 2002. С.6.
[16] Кон И.С. Сексуальная культура в России: клубничка на березке. М.: ОГИ, 1997; Голод С.И. Что было пороками стало нравами. Лекции по социологии сексуальности. М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 2005.
[17] Вопрос ставился следующим образом: «Как Вы считаете, до какого возраста девочка, девушка или женщина, как правило, еще слишком молода, чтобы заканчивать получение образования?»
[18] Кон И.С. Юность как социальная проблема //Бой идет за человека /Под ред. В.Г.Лесовского. Л.: Наука, 1965. См. Также: Кон. И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989 и др. В этих работах, в частности, справедливо замечается, что зависимый социальный статус студенчества не означает автоматически для них более позднего социального созревания, по сравнению с работающими сверстниками. Как правило, опережение в культурно-образовательном отношении связано с приобщением к более сложным формам социальной ответственности – неотъемлемого атрибута взросления.
[19] Наиболее распространенный возраст, по достижению которого закон разрешает самостоятельно принимать решение о браке в Европе – 18 лет.
[20] Согласно А.А. Ивину, трем классам действий соответствуют три основные виды норм: обязательные, нормативно-безразличные (разрешающие) и запретительные, которые имеют различную модальность по отношению к одному и тому же действию в различных нормативных системах: что обязательно в одной, разрешается или запрещается в другой (см.: Ивин А.А. Логика норм. М., 1973; Норма //Философия: энциклопедический словарь /Под ред. А.А.Ивина. М., 2006). В отношении системы семейно-матримониальных норм мы сегодня являемся свидетелями как перехода от практически обязательной к преимущественно нормативно-безразличной модальности норм, так и размывания временной относительности действия основополагающей нормы: «выйти замуж и родить ребенка». Возрастные рамки вступления в первый брак и рождения первенца для женщины в послевоенное время значительно расширились во всех развитых странах, не исключая и Россию (см.: Захаров С.В. Возрастная модель брака. //Отечественные записки. 2006. №4 (31).).
[21] Подробнее об изменении возрастных профилей брачности и рождаемости в России и других развитых странах см.: Население России. Ежегодный демографический доклад. /Под ред. А.Г.Вишневского. М., 1997-2008.
[22] См., например: Население России 2005. Тринадцатый ежегодный доклад. /Под ре. А.Г.Вишневского. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. С.47-52.
[23] Вступление в брак не только в традиционном, аграрном обществе, но и в индустриальную эпоху долгое время оставалось главной причиной покидания родительского дома для девушки, сильно ограничивая для нее доступ к профессиональному образованию и, соответственно, права на экономическую независимость. Ассоциация покидания родительского гнезда с браком достигает своего максимума повсеместно в западных странах в 1950-1960-х годах в связи со снижением возраста вступления в первый брак после Второй мировой войны. Начиная с 1970-х годов, на фоне увеличения возраста заключения брака, связь выделения из родительской семьи с браком быстро ослабевает, в первую очередь, в странах Северной и Западной Европы, США (см., например: Kiernan K. 1989. The departure of children. In E.Grebenik, et al. (Eds.), Later phases of the family cycle. Oxford: Clarendon Press: 120-144; Goldscheider F. 1997. Recent changes in U.S. young adult living arrangements in comparative perspective. Journal of Family Issues 18(6):708-724; Cordón J. 1997. Youth residential independence and autonomy: A comparative study. Journal of Family Issues 18(6): 576-607; Reher D. 1998. Family ties in Western Europe: Persistent contrasts. Population and Development Review, 24(2): 203-35 Gutmaun M.P., Pullum-Pinon S.M., Pullum T.W. 2002. Three eras of young adult home leaving in twentieth-century America. Journal of Social History. 35(3): 533-576).
[24] Полученные нами результаты хорошо согласуются с другими известными исследованиями, посвященными изучению фактического возраста выделения из родительской семьи в различных странах (Wall, R. 1989. Leaving home and living alone: an historical perspective. Population Studies, 43(3): 369-389; Cordón J. 1997. Youth residential independence and autonomy: A comparative study. Journal of Family Issues 18(6): 576-607; Kuijsten A.C. 1998. Recent trends in family and households in Europe: An overview. In E. Van Imhoff et al. (Eds.), Household Demography and household modeling. New York: Plenum Press: 53-84; Reher D. 1998. Family ties in Western Europe: Persistent contrasts. Population and Development Review, 24(2): 203-35; Billari F.C., Castiglioni M., Martin T.C., Michielin F., Ongaro F. 2002. Household and Union Formation in Mediterranean Fashion: Italy and Spain. In E.Klijzing and M.Corijn (Eds.). Dynamics of fertility and partnership in Europe. Insights and lessons from comparative research. Vol. II. United Nations, N.Y. and Geneva: 17-41).
[25] Желающие изучить подробнее молодежную дискуссию о «взрослом человеке» могут обратиться по следующему адресу: http://city.is74.ru/forum/archive/index.php/t-217232.html
[26] Интересно, что разработчики не предусмотрели в списке такое событие, как завершение образования, которое в этом ряду было бы более чем уместным. Не рассматриваются и гражданско-правовые события, за исключением регистрации демографических событий (заключение брака, рождение ребенка). С другой стороны, полноценная занятость (второе событие в списке), обычно предполагает, что получение основного профессионального образования завершено.
[27] О тенденции распространения незарегистрированных союзов в европейских странах и России см.: Население России 2005. Тринадцатый ежегодный демографический доклад. М., 2007, с.53-65.
[28] Как тут не вспомнить бесконечную дискуссию о том, кого считать «молодежью», «молодым ученым», «молодой семьей» в связи совершенствованием молодежной и семейной политики в нашей стране. Сегодня на получение различных льгот, в том числе при решении жилищных проблем, исключительно по возрастному критерию, претендуют 35-летние «молодые ученые», «молодые семьи», возраст одного из супругов в которых не превышает 30 и даже 35-летнего возраста и т.п. Помнится, в 1970-1980-х гг. в подобных дискуссиях речь шла о 25-летнем возрастном барьере.
[29] Революция притязаний и изменение жизненных стратегий молодежи: 1985-1995 /Под ред. В.С.Магуна. М.: ИС РАН, 1998; Магун В., Энговатов М. Структура и межпоколенная динамика жизненных притязаний молодежи и стратегий их ресурсного обеспечения: 1985-2001 //Вестник общественного мнения. 2004. №4 (72).
[30] «Каждое следующее поколение молодых людей все больше перераспределяет свои и чужие ресурсы в пользу решения задач собственного профессионального образования» (Магун В. и Энговатов М., с.82). При сохранении данной тенденции относительно ранняя модель формирование семьи, характерная для России, не имеет будущего, подобно тому, как она по тем же причинам ушла в прошлое в других странах.

