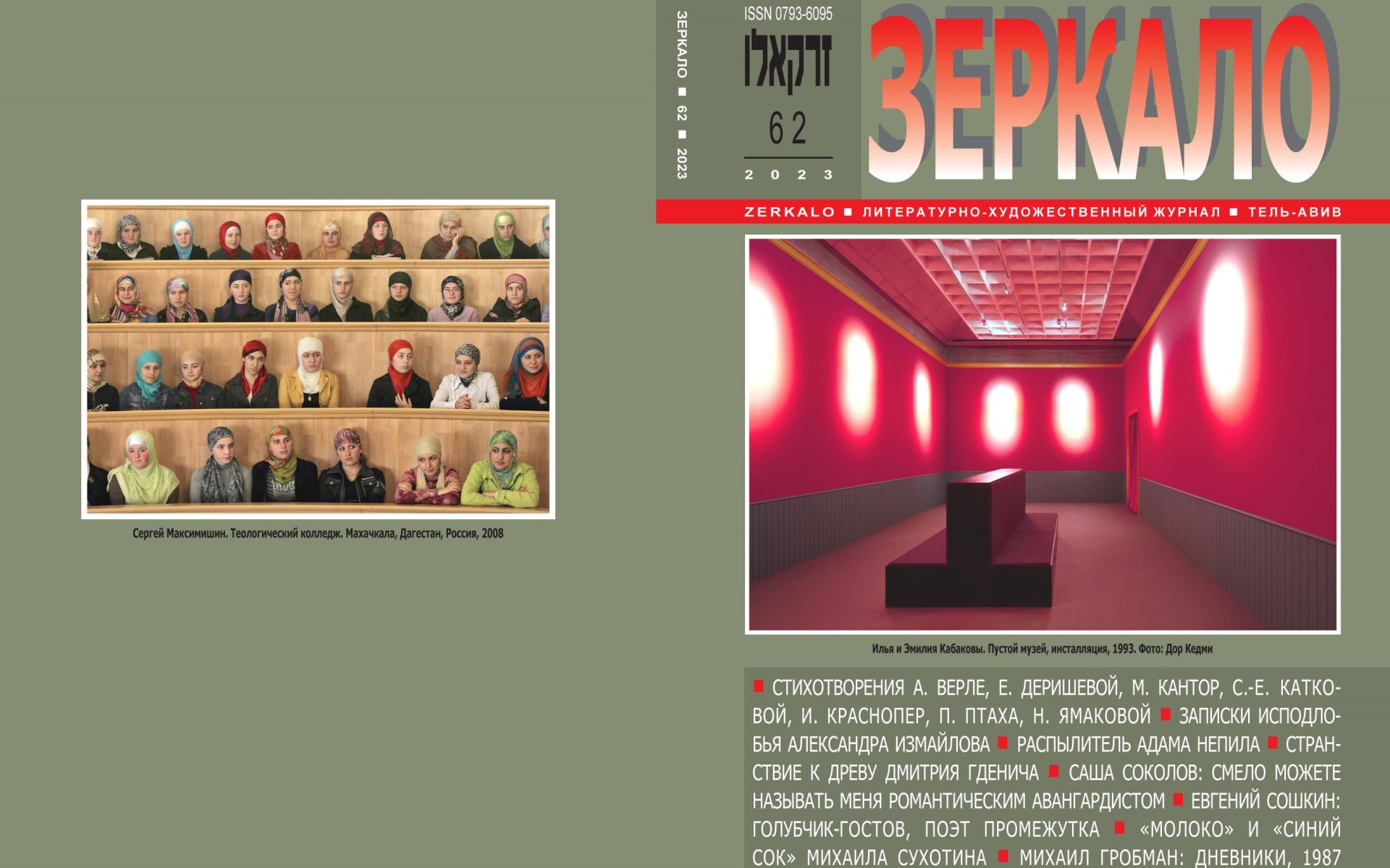
Задача, которую «Зеркало» № 62 ставит перед собой в разделе «СТИХИ», по традиции открывающем каждый номер, — это создание своего поэтического пространства в современной поэзии поверх уже сложившихся иерархий и поверх географических границ. В свежем номере стихи авторов из Германии, Израиля, России, Украины.
Со своими подборками стихов представлены:
и птица о ста глазах
вечно смотрящих мимо
статуя дерева в роще
затерявшаяся среди деревьев
пока прощались самые близкие
царапины на поверхности реки
потоки воды считывают файлы камней
мерцающие курсоры деревьев воспроизводят движение природы
интерфейс ручья существует в момент обращения к данным
{в файлах камней — отпечатки появления света}
данные отображаются одни за одним
«Слева жёлтые огни, справа — красные.
Жёлтые летят на север, красные — на юг.
Так Аялон делит Тель-Авив на две неравные части.
Я, похоже, не принадлежу ни одной из них.
Я — между красным и жёлтым».
«черемша растет сквозь этюды
сочиненные снежной бурей
каждый год я ползу по их склону
под колючей проволокой лирид»
«мутная вода ведёт через океан к новости
хвосты самолётов хранят секреты
никого не поранить
никого не уронить
не проронить
нить»
из концлагеря
кто-то звонит в полицию
приезжайте немедленно
тут концлагерь
пожалуйста подождите
на проводе
надо проверить
можно ли тут что-то сделать
и вправе ли мы
вам помочь
«По вторникам бомбы над нашим балконом.
Я жабры прикрою и детям глаза.
Всё было, всё было, как жаль Антигону.
Как жаль Антигону, но иначе нельзя».
Следующий раздел, «ПРОЗА ПЛЮС», в первых своих текстах продолжает, по сути, предыдущий: Александр Измайлов «Записки исподлобья», Адам Непил «Распылитель». Оба автора далеко уходят от сюжетного повествования, которое всегда было принято считать основой прозы. Они пишут, скорее, стихопрозу, предоставляя читателю двигаться по словесному строю текста, с парадоксальным сочленением, казалось, далеких друг от друга слов, понятий, микросюжетов.
Александр Измайлов «Записки исподлобья»: «Всё идет своим чередом. В нотной тетради ноты ползают как муравьи. На Луне сейчас плюс сто сорок и абсолютная, как глухота, тишина. Америку тянут на дно тонущие авианосцы, по которым змеятся зелёные искры Азии. Кахетинский нагар шашлыка пьёт азарт коньяка и вдыхает ароматные букли сигары. С купюрами вместо манжет в одно ухо входит, в другое выходит король крапленой дождями колоды».
Адам Непил «Распылитель»: «Когда стирается якобы память, некоторые заносят: тарарам-тарарам, помнят разве что крылья сороки, голодная кошка, тяжелое небо, дрожащая тень поплавка. Кое-как ткнули пальцем, где было, вот и спасли, и нам не мешает, и как бы приделано. Но память ликует иначе, тогда, когда ведет и заводит. Или доводит. Повернуться не успел, а уже смеркается. Брел не валко, но шатко, заметно зяб. …енной пеной».
Иными словами, это проза для изощренного читателя.
Сюжетная проза появляется в разделе «ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА» в тексте Дмитрия Гденича «Странствие к Древу», написанном в стилистике фантастического эпоса, несколько представителей страны Вечны, особой цивилизации на земле, отличающихся от прочих и физиологически, но большей просвещенностью , чем их соседи, отправляются в странствие через страну векшусов, к Древу Жизни, про которое знают из древних легенд. Путешествие их изобилует разными сюжетными поворотами, в итоге возникает сложный, многомерных образ земных цивилизаций, пусть и фантастический, но как раз предложенная автором многоуровневая метафора провоцирует на размышления об устройстве уже нашего мира.
В разделе «ОГОНЬ ПРЯМОГО РАЗГОВОРА» интервью Саши Соколова «Смело можете называть меня романтическим авангардистом». Соколов рассказывает об истории своего вхождения в литературу и размышляет о поэтике русской поэзии с попыткой совместить с нею свое творчество. «Одни ученые люди полагают меня модернистом, другие — пост-. Сам я, значит, воспринимаю себя простым, нормальным, средней руки авангардистом».
В разделе «РЕКОНСТРУКЦИЯ» две статьи, жанр первой — Евгений Сошкин «Голубчик-Гостов, поэт промежутка» — следовало бы назвать микромонографией. Она о поэте, после долгого забвения входящем в наш культурный обиход, — Голубчике- Гостове (Лев Гольдёнов, 1892–1941), интерес к которому десятилетиями не выходил за пределы узкого круга филологов. Автор пытается разобраться, почему так сложилось: стихи Гостева поначалу «произвели на меня впечатление чего-то принципиально незнакомого, почти никогда не позволяющего по ходу чтения предугадать последующее развитие поэтической мысли. Несмотря на то что характерное полиграфическое оформление обеих книг и, большей частью, сами стихи безошибочно идентифицировались с авангардным искусством тех лет, в неподражаемых интонациях Гостова я мог различить лишь смутную перекличку с тогдашней поэтической разноголосицей, да и всей русской лирикой. Сегодня я определил бы его поэзию как переходную форму от авангарда к поставангарду».
Следующую статью в этом разделе — Михаил Сухотин. «Молоко» и «Синий сок» (аналогии в поэзии М. Гробмана и Вс. Некрасова на раннем этапе) — также можно отнести уже к литературоведению, хотя один из двух персонажей статьи, Михаил Гробман, как поэт и художник, не прерывает работы до сегодняшнего дня. Автор начинает с анализа стихотворения Гробмана 1963 года «Молоко» с параллельным анализом стихотворения «Синий сок» Вс. Некрасова, в которых авангардные поэты той эпохи устанавливают для себя телесные отношения с окружающим миром. Вот цитата из письма Некрасова Гробману: «Экий ты мудрый какой стал, братец, нутряной-земляной этакий (песчаный, небось) кондовый, ядрит твою опять же в молоко, про которое ты пишешь. К земле близкий, как ну прям Н. Заболоцкий или Лев Толстой». Собственно вот это «нутряное», телесное и стало одним из лейтмотивов творчества Гробмана и в стихах, и в живописи — «… Бестелесное бремя волнует лоб идиота, Позвоночного мальчика с выпуклой маминой бровью — …. постоянный образ «с носом» в его будущих работах. Это своего рода травестия, поскольку «идиот» на самом деле – простой человек, родившийся в мир, простак. А кто из нас не простак? И уж так ли во всем не простак? Это онтологический, очень серьезный знак даже скорей, чем образ. И, думаю, именно за эту универсальную глубину, бывшую с Гробманом с самого начала, Некрасов в своём письме о «Молоке» и зовет его «мудрым».
Завершают номер в разделе «ВРЕМЯ И МЕСТО» «Дневники. 1987» Михаила Гробмана — плотно, короткими информативными фразами написанное повествование о поездке с участниками группы «Левиафан» на всемирную художественную выставку Documenta в Касселе, Германия, для участия в одном из самых значительных событий в мире современного искусства, которое происходит раз в пять лет. Внешне это как бы сухая хроника очередного путешествия, но неожиданно эмоциональная с двумя выступающими изнутри мотивами: самоощущение автора, попавшего в среду художников из России и Израиля с их творческим бессилием в обращении с современным искусством, на которое они в поисках популярности претендуют, и самоощущение еврея-художника, оказавшегося на земле, жители которой устроили Холокост.
Сергей Костырко

