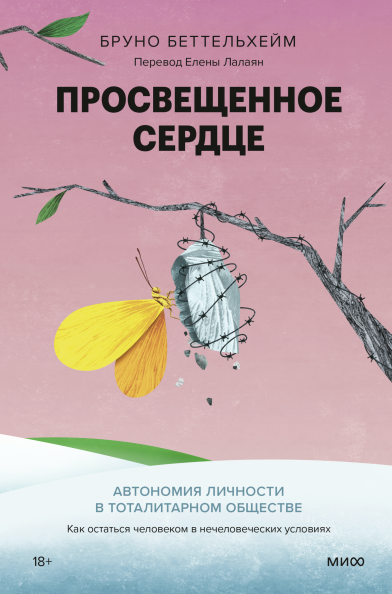
Издательство «Манн, Иванов и Фербер» представляет книгу Бруно Беттельхейма «Просвещенное сердце. Автономия личности в тоталитарном обществе. Как остаться человеком в нечеловеческих условиях» (перевод Елены Лалаян).
В 1938 году Бруно Беттельхейм, тогда еще начинающий психоаналитик, был арестован нацистскими властями и отправлен в концлагерь Дахау. Там ему пришлось увидеть и пережить чудовищные вещи. Профессиональные наблюдения за собой и другими узниками помогли ему сохранить разум и уцелеть. Позже, когда Беттельхейм стал известным психологом, эти наблюдения легли в основу его публикаций о человеческом поведении в экстремальных ситуациях.
Эта книга подводит итог и лагерному опыту Беттельхейма, и его многолетним размышлениям о взаимодействии человека и общества. Автор точно и откровенно описывает механизмы, которые превращают обычного гражданина в жертву системы или шестеренку в машине уничтожения.
Но «Просвещенное сердце» — это еще и книга о внутренних устоях, которые не дают человеку склонить голову перед злом. И о том, почему человечество, пережив очередной кризис, всякий раз делает новый шаг вперед.
Предлагаем прочитать фрагмент книги.
Когда пробил час
Выше я отмечал, что подчинение тоталитарному государству влечет за собой распад личности, прежде бывшей вполне целостной, а также возврат ко многим инфантильным наклонностям. Сейчас, как я полагаю, пришло время предложить читателю некоторые теоретические рассуждения по теме. Еще много лет назад З. Фрейд постулировал наличие в человеке двух противоположных влечений (т. е. постоянных динамических сил, подталкивающих человека к действию): влечения жизнеутверждающие, инстинкты жизни, названные им эросом или сексом, и влечения к саморазрушению, т. е. инстинкты смерти. Чем более развита личность, тем выше ее способность «сплавлять воедино» противоположные влечения, что образует энергию эго, позволяющую принимать реальность и воздействовать на нее.
Чем менее развита психика человека, тем больше он попадает во власть влечений, и в какой-то момент они направляют его личность в одну сторону, а в следующий момент в другую. Например, у дикаря с его примитивной психикой так называемое детское дружелюбие может в следующее мгновение смениться крайней безрассудной жестокостью. Однако распад личности, а вернее было бы сказать «разделение» энергии эго, под действием запредельного стресса — заставляющее поддаться беспримерно разрушительным влечениям («Пусть все кончится, неважно как»), а в следующий момент иррациональным влечениям к жизни («Съем все сейчас, неважно, что потом сдохну от голода»)1 — это всего лишь один из аспектов «упрощения» человека в тоталитарном государстве. Другой аспект — соскальзывание в инфантильное мышление, например принятие желаемого за действительное вместо критической оценки реальности и по-детски наивное неверие в возможность умереть. Отсюда у многих заключенных возникала иллюзия избранности, что якобы их одних пощадят и позволят выжить.
Но еще больше заключенных просто переставали верить в возможность собственной смерти, из-за чего не готовились к такой возможности и в том числе никак не готовились защитить свою жизнь в момент, когда гибель станет неизбежной. До непосредственной угрозы гибели попытками защитить свою жизнь они рисковали только приблизить свою смерть. И потому поощрявшееся противником поведение бильярдного шара «послушно катиться, куда пнули» до некоторой степени служило им защитой. Но когда подходил решающий момент, такое поведение становилось губительным для самого индивида, а также для других, поскольку они тоже получили бы больший шанс выжить, решись кто-то из них рискнуть, ведь они все равно были обречены. Но в том-то и беда, что чем дольше индивид «катится под ударами», тем вероятнее, что у него уже не останется сил сопротивляться в самый момент неминуемой смерти, в особенности если такая уступчивость противнику сопровождалась не внутренним укреплением личности (как то требовалось), а ее разрушением2.
Те, кто не отрицал реальность смерти, не подавлял мысль о ее возможности и не впадал в детски наивные иллюзии своего бессмертия, те да, готовились к ней как к реально возможному событию. Это означало рисковать жизнью ради самостоятельно выбранной цели и в движении к этой цели спасать свою жизнь, жизнь других людей или и то и другое. Когда Германия начала вводить ограничения для евреев, те, кто не поддался апатии, сумели понять, что для них пробил час уйти в подполье, влиться в движение сопротивления, добыть себе фальшивые документы и прочее (конечно, если это не было сделано раньше). И эти люди в большинстве выжили.
Для иллюстрации подойдет пример моих дальних родственников. С началом вой ны один из них, молодой парень, живший в маленьком городке в Венгрии, вместе с другими горожанами-евреями составил план на случай вторжения Германии. Как только нацисты ввели в городке комендантский час для еврейского населения, группа переместилась в Будапешт из тех соображений, что чем больше город, тем проще в нем скрываться. Как и аналогичные группы из других мест, они объединились с той, что образовалась в Будапеште. Они выбрали из своих рядов несколько мужчин типично «арийской» внешности, и те по поддельным документам немедленно поступили на службу в венгерские подразделения СС — чтобы предупреждать товарищей о готовящихся акциях, заранее сообщать, в каких районах города пройдут облавы , и т. п.
Их замысел работал так успешно, что большинство групп сохранились, не понеся потерь. Вместе с тем они добыли себе огнестрельное оружие, чтобы в случае, если их обнаружат, затеять масштабную перестрелку и дать большинству время скрыться ценой гибели тех, кто будет сдерживать противника3. Нескольких из поступивших в СС сразу же разоблачили и тут же расстреляли, что, вероятно, было лучше, чем смерть в газовой камере. Но даже среди служивших в СС евреев большинство выжили, до последнего момента прячась в рядах самих эсэсовцев.
Мой юный родственник не смог убедить некоторых членов семьи вместе с ним перебраться в Будапешт. Позже он трижды с огромным риском для жизни возвращался в городок уговаривать их. Он указывал на усиливавшиеся преследования, на то, что евреев уже массами отправляют в газовые камеры. Но так и не смог внушить им сняться с места, оставить свои дома и нажитое имущество. С каждым визитом он все отчаяннее умолял их уехать с ним, и с каждым визитом встречал все более упорное нежелание слушать его и все бóльшую неспособность к действию. Как будто они с каждым его приездом делали очередной шаг к крематорию, где в конце концов и сгинули.
С каждым приездом он убеждался, что его родные еще отчаяннее цеплялись за свой прежний жизненный уклад и за нажитое имущество. Как будто в них параллельно протекали два процесса: чем больше вымывалось их жизненной энергии, тем больше домашние вещи давали им мнимую безопасность, подменявшую ту реальную, которая подкреплялась активным планированием жизни. Они тоже, как дети, предпочитали отчаянно цепляться за отдельные вещи, и теперь в них вкладывали весь тот смысл, которого больше не могли найти в своей жизни. Стоило им отказаться от борьбы за собственное выживание, как неодушевленные предметы начали все больше и больше превращаться в средоточие их жизни, а их личности — распадаться, крошиться на кусочки.
В Бухенвальде я разговаривал с сотнями немецких евреев, попавших в заключение еще осенью 1938 года. Я допытывался, почему они не уехали из Германии, видя, как усиливается преследование, как множатся унижения, которым их подвергают. Ответ был: разве мы могли? Тогда пришлось бы бросить свои дома, говорили они, бросить налаженное дело. Нажитые ими земные блага гирями висели у них на ногах, не давая сдвинуться с места. Вместо того чтобы распоряжаться своей собственностью, они сами очутились в ее распоряжении4.
Перемены в отношении нацистов к евреям хорошо показывают, как люди, которые помещали всю жизненную энергию в свое имущество, шаг за шагом двигались к своей гибели. Во времена первых бойкотов еврейских магазинов видимой целью нацистов было завладеть имуществом евреев. Последним даже позволялось взять что-то из вещей с собой, если они обещали сейчас же уехать из страны, бросив основное имущество. Долгое время в намерения нацистов как раз и входило выдавливание в эмиграцию нежелательных меньшинств, включая евреев, и для этого как раз и принимались дискриминационные законы. Политику истребления нацисты ввели, только когда предыдущие меры не дали результата, хотя она тоже вписывалась во внутреннюю логику их расовой идеологии. Остается только гадать, не оттого ли эсэсовцы пришли к мнению, что миллионы евреев (а позже людей других национальностей) покорно пойдут на заклание, что они видели, как много унижений готовы принять евреи, не пытаясь постоять за себя. Преследования ужесточались постепенно, шаг за шагом, поскольку не встречали решительного сопротивления. Вполне вероятно, что покорное принятие евреями нараставших дискриминации и унижений как раз и послужило СС первой подсказкой, что их можно довести до состояния, когда они своими ногами пойдут в газовые камеры.
Большинство польских евреев, которые не верили, что их жизнь продолжится «обычным порядком», пережили Вторую мировую войну. При приближении немцев они без сожалений бросали дома и имущество и бежали в Россию, хотя многие из них питали здоровое недоверие к советской системе. Но пускай они были там, судя по всему, гражданами второго сорта, их по крайней мере считали людьми. Те же, кто оставался на месте и пытался жить как ни в чем ни бывало, сами шли навстречу моральному разложению и погибали. Таким образом, в глубинном смысле путь в газовую камеру можно расценивать как заключительное следствие философии «жить обычным порядком», невзирая на обстоятельства; как последнее проявление непротивления инстинкту смерти. Что также можно назвать принципом накопленной инерции бездействия, ведь индивид делал первый шаг на этом пути еще задолго до того, как оказаться в лагере смерти.
Правда и то, что такое самоубийственное поведение имеет еще другое толкование. Оно означает, что человека можно довести до определенной черты и не далее; что за этой чертой он предпочитает смерть нечеловеческому существованию. Но первым шагом к этому жуткому выбору все равно бывает инерция бездействия. Те, кто сдаются на милость апатии, изымают свою жизненную энергию из мира, теряют способность к инициативному действию и страшатся его в других людях. Они уже не воспринимают реальность такой, какова она есть. Вернувшись в инфантильность, они способны видеть ее только детскими глазами, охотно отрицают все неприятное и свято верят в собственное бессмертие. Этот феномен ярко иллюстрируется лагерным опытом Ольги Ленгель в Аушвице. По ее воспоминаниям, хотя их женский барак отстоял всего на несколько сотен ярдов от крематория и газовых камер и узницы хорошо понимали, что там происходило, многие из них даже месяцы спустя не верили в это5. Осознай они истинное положение дел и свою ситуацию, это, вероятно, помогло бы им либо спасти свои жизни, которые у них и так собирались отнять, либо жизни других заключенных. Но они не могли позволить себе осознать это. Когда Ленгель в числе прочих узниц отобрали для отправки в газовые камеры, остальные даже не попытались вырваться, как это успешно сделала Ольга. Хуже того, при первой попытке ее товарки из партии отобранных в газовую камеру позвали надзирателей и донесли им, что она пыталась скрыться. Ленгель в отчаянии задается вопросом: как это возможно, чтобы люди отрицали реальность газовых камер, когда весь день видели, что из труб крематория валит черный дым, а воздух пропитан смрадом горелой плоти?
Как они дошли до того, что предпочли не верить в свое уничтожение только для того, чтобы удерживать себя от попыток спасти собственную жизнь? У Ленгель нет другого объяснения, кроме того, что ими двигала зависть ко всякому, кто мог бы избежать общей участи, потому что им самим не хватало смелости действовать во свое спасение. На мой взгляд, причина в том, что они отказались от воли к жизни и отдались во власть влечения к смерти. Что подвигло их больше отождествлять себя с эсэсовцами, которые истребляли людей, чем со своими товарками по заключению, которые вс ё еще цеплялись за жизнь и потому сумели избежать смерти.
Человечность, для чего она нам?
Когда заключенные шли прислуживать своим палачам, когда помогали им ускорять конвейер смерти таких же, как они, заключенных, дело уже выходило за рамки простой инерции. К их инерции бездействия уже добавлялось неудержимое влечение к смерти. Те, кто пробовал прислуживать своим убийцам по профессии, которую имели в прошлой гражданской жизни, просто продолжали если не прежнюю профессиональную деятельность, то прежнюю жизнь «обычным порядком», и тем открывали себе двери к смерти.
Ленгель называет служившего в Аушвице нацистского врача Йозефа Менгеле типичным примером настроя на «жизнь обычным порядком», который позволял некоторым узникам и определенно эсэсовцам более-менее сохранять внутренний баланс, несмотря на все, что они творили. Она отмечает, что доктор Менгеле принимал роды со всеми необходимыми предосторожностями, неукоснительно соблюдал антисептические меры, аккуратно перерезал пуповину и пр. А спустя полчаса отправлял мать и новорожденного в крематорий.
Но даже сделав выбор, доктор Менгеле и ему подобные должны были хотя бы иногда обманывать себя, чтобы продолжать жить в ладу со собой, имея на совести такой груз. На эту тему я нашел всего одно письменное свидетельство за авторством доктора Нисли, узника Аушвица, который пошел служить эсэсовцам в роли «врача-исследователя»6. Как он старательно сам себя обманывал, видно хотя бы по тому, что он все время называл себя врачом, хотя по сути был подручным преступника. Институт расово- биологических и антропологических исследований он аттестовал как «один из самых высокопрофессиональных медицинских центров Третьего рейха», хотя его главной задачей были фальсификации. Что Нисли был врачом, ни в коей мере не меняет того факта, что, как и всякий проминент, прислуживавший СС усерднее, чем это желали делать иные эсэсовцы, он был пособником, соучастником преступлений СС. Но как он мог жить с этим?
Ответ такой: он гордился своими профессиональными навыками, невзирая на то, каким целям они служили. Его профессиональная гордость пронизывает все его записки, где он рассказывает о собственных страданиях и страданиях других заключенных. Здесь важно отметить, что доктор Нисли, доктор Менгеле, как и сотни других куда более выдающихся врачей, получивших профессиональное образование задолго до появления Гитлера, участвовали в медицинских опытах над людьми и связанных с ними псевдонаучных «изысканиях»7. Их гордость за свой профессионализм и научные знания безотносительно моральности их практического применения — вот что представляет немалую опасность. То же самое мы видим в современном обществе, которое необычайно высоко ценит технологические компетенции, хотя концентрационные лагеря и крематории давно отошли в прошлое. Аушвица больше нет, но пока живо это абсолютное безразличие к человеческой жизни, мы не можем чувствовать себя в безопасности.
Легко понять, что достижение тонкого равновесия между крайностями может открыть путь к идеально благополучному существованию. Труднее принять мысль, что этот рецепт пригоден и при массовом уничтожении людей. Но отдаваться на волю одних только эмоций или одного только разума даже в экстремальных условиях — не тот путь, который ведет к хорошей жизни и тем более к выживанию. Отто Франк жил ради того, чтобы сберегать своим родным их привычную жизнь, но при всей любви к ним не сумел уберечь их самих, что мог бы сделать, будь его эмоции больше оплодотворены разумом. Доктор Нисли, напротив, сделал ставку на свой высокий профессионализм патологоанатома, и вопреки голосу восстававшего сердца настолько растоптал свое самоуважение и свою науку, что вряд ли в его выжившей телесной оболочке оставалось хоть что-то человеческое.
Я знал многих евреев, а также неевреев антинацистов, выживших в гитлеровской Германии и оккупированных странах, как те ребята из будапештской группы. Но эти люди понимали, что нельзя продолжать жизнь обычным порядком, когда привычный мир раскалывается на куски, когда бесчеловечность правит бал. В такие времена ты должен в корне переоценить все, что делал, во что верил, за что выступал. Если коротко, ты должен определить свою позицию в новой реальности и твердо держаться ее, а не замыкаться в частной жизни еще сильнее.
Если сегодня чернокожее большинство в ЮАР выступит против стоящей на страже апартеида вооруженной до зубов полиции — даже если будут убиты сотни, а десятки тысяч брошены в концентрационные лагеря, — их протест, их борьба рано или поздно убедит их, что впереди есть просвет, реальный шанс обрести свободу и равенство. Миллионы евреев в Европе, которые вовремя не уехали или не перешли на нелегальное положение, как это сделали тысячи других, могли бы по крайней мере выступить против СС как люди свободной воли вместо того, чтобы «лечь ничком», ждать, когда за ними придут, чтобы отправить в лагерь уничтожения, а потом своими ногами идти в газовые камеры.
И все же история концентрационных лагерей учит нас, что даже в такой подавляющей всякую свободу среде определенные виды психологической самозащиты вс ё же позволяют сберегать себя и что важнейший элемент этой самозащиты — осознание, какие процессы и почему происходят в твоей психике. Имея достаточно такого понимания, узник не поддастся на самообман, будто защищает себя, чем дальше, тем больше подчиняясь среде. Он поймет, что многое из , казалось бы , дающего ему защиту на самом деле только разрушает его личность. Самый запредельный пример — заключенные, которые сами вызывались подсоблять эсэсовцам уничтожать людей в газовых камерах, надеясь этим спасти свои жизни. Всех их в скором времени уничтожили. Но многие погибли еще раньше, прожив последние недели в кошмаре более страшном, чем тот, что был им уготован, не сунься они добровольно приспешничать врагу.
1. Например, заключенным, которые в один присест съедали всю отпущенную им на день пайку, нечем было восполнить энергию, которая к концу трудового дня почти иссякала. Те же, кто распределял скудную пайку на порции и часть еды приберегал на потом, когда им могло больше всего угрожать истощение, в долгосрочном плане обеспечивали себе намного лучшее питание.
2. Такой же феномен можно заметить и в истории семьи Франк, члены которой цапались по пустякам вместо того, чтобы поддерживать друг в друге желание сопротивляться деморализующему воздействию условий, в которых они жили.
3. Для сравнения замечу, что Франки выбрали себе в убежище фактически «мышеловку», не имевшую другого выхода, и за все месяцы так и не подготовили себе путей экстренного отступления, чтобы хотя бы попытаться сбежать, пока один или двое мужчин их группы будут перекрывать забаррикадированный вход в убежище. И еще: сидя в убежище, отец семейства Франк преподавал младшим предметы из курса средней школы, но никогда не учил их, как в случае надобности выбраться из убежища и скрыться: еще один признак все той же неспособности признать реальность смерти.
4. Франки тоже откладывали переселение в убежище, желая переправить туда как можно больше своего имущества. И так с этим затянули, что для сестры Анны едва не стало поздно — гестапо уже прислало ей повестку с предписанием явиться для отправки в транзитный концлагерь.
5. Многие среди гражданского нееврейского населения Германии тоже не верили в газовые камеры, но их отрицание означало нечто другое. В то время гражданину признать существование газовых камер и восстать против них означало подписать себе смертный приговор. А заключенные Аушвица уже были обречены.
6. Nyiszli, Dr. Miklos, Auschwitz: A Doctor’s Eyewitness Account, New York: Frederick Fell, Inc., 1960.
7. Среди главврачей клиник и заведующих кафедрами, которые сознательно участвовали в опытах над людьми, были профессор Зауэрбрух из Мюнхенского университета, профессор Эппингер из Венского университета — наставники целых поколений врачей догитлеровской поры. Был среди них и президент германского Красного Креста д-р Гебхардт (Mitscherlich, A., and Mielke, F., Doctors of Infamy, New York: Henry Schuman, Inc., 1949).

