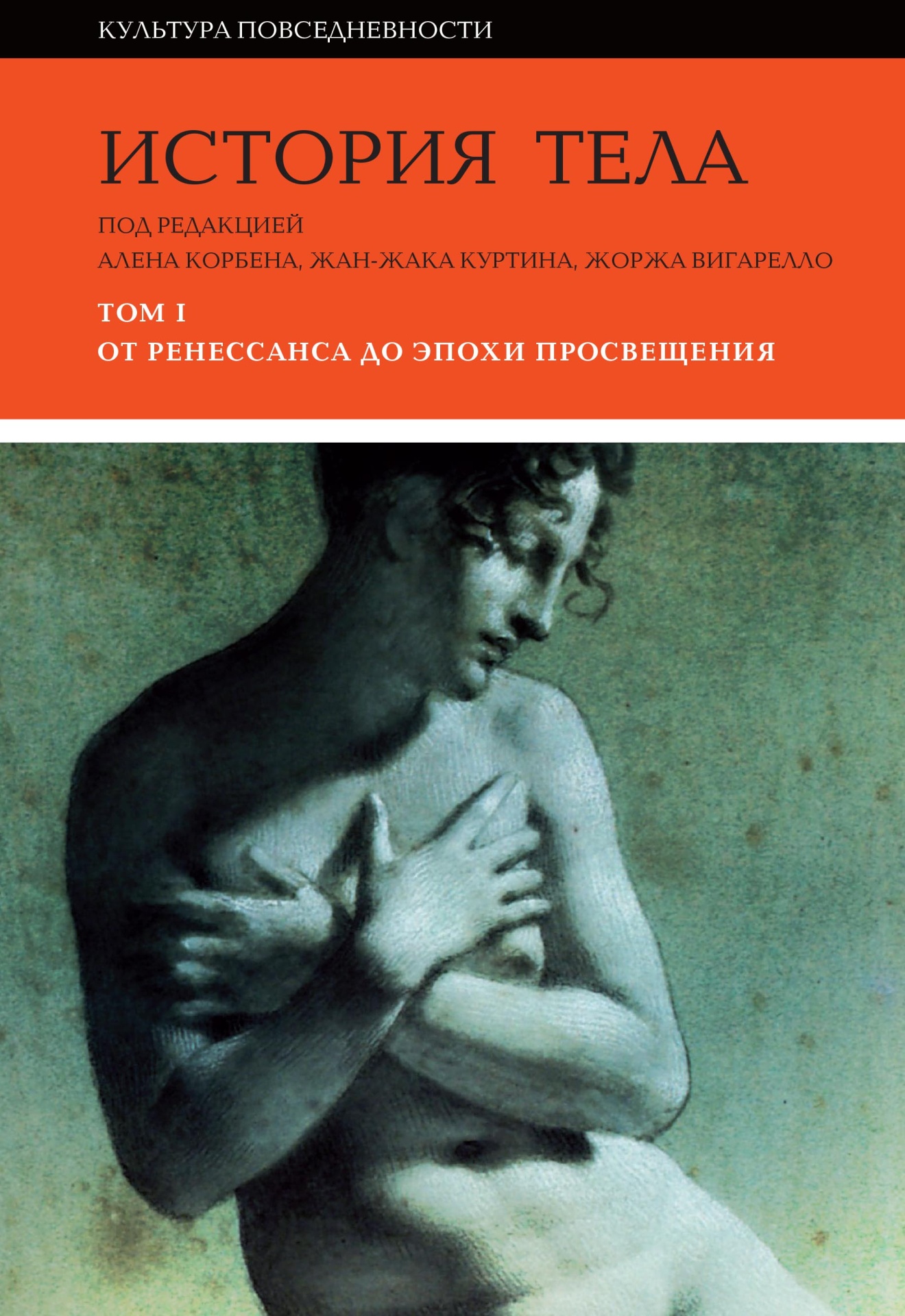
Издательство «Новое литературное обозрение» представляет новое издание книги «История тела. Том 1. От Ренессанса до эпохи Просвещения» (под редакцией Алена Корбена, Жан-Жака Куртина, Жоржа Вигарелло, перевод с французского Марии Неклюдовой и Анны Стоговой).
Трехтомная «История тела», написанная французскими, британскими и американскими антропологами и историками культуры, всесторонне рассматривает телесные практики Европы — от Ренессанса до нашего времени. Как менялось отношение к телу на протяжении веков, как рассматривали тело религия, медицина, народная культура, искусство; как телу следовало вести себя и манифестировать себя; какие социальные и сексуальные практики поощрялись, а какие были под запретом; чем тело монарха отличалось от тела простолюдина — обо всем этом рассказывает большое исследование под редакцией Алена Корбена, Жан-Жака Куртина и Жоржа Вигарелло. Первый том посвящен истории тела от Ренессанса до эпохи Просвещения и описывает становление европейского образа «современного» тела. История тела здесь рассматривается в разных аспектах: тело и религия, тело и общество, тело и сексуальность, тело и медицина, тело и игра, тело и власть.
Предлагаем прочитать одну из глав книги.
Нечеловеческое тело
Жан-Жак Куртин
Зрелище врожденного уродства вызывает всплеск страстей и усиление предрассудков. Нынешний естествоиспытатель не может не изумляться тому, сколько веков понадобилось науке, чтобы во всех ее областях прийти к простой отправной точке: непредвзятому и точному наблюдению фактов.
Так Этьен Вольф в своей «Монструозной науке» характеризует существующее в современной биологии представление о долгой и мрачной истории человеческих уродств. Оно связано не столько с историей монстров как таковых, сколько с монструозностью в науке или с историей тератологии. Любопытство и интерес, который вызывали врожденные физические недостатки, жестокое обращение, которому подвергались их носители, окружавшие их страхи и отвращение, способы их демонстрации, связанные с ними формы коммерции, — одним словом, вся та часть смутных отношений и практик, которые в традиционном обществе окружают человеческие уродства, здесь будет служить фоном для истории особого типа научного дискурса.
I. Расколдованная странность
Это классическая история с предсказуемым итогом: постепенной рационализацией и медикализацией представлений о телесных уродствах. Вначале древние заблуждения, затем робкие шаги вперед, приводящие к более решительному движению и, наконец, к окончательному прогрессу. «Среди предрассудков, которые играли и до сих пор играют столь пагубную роль в развитии человечества, ни одни не вызвали столько странных идей, безумных учений, несправедливого обращения и даже ужасных преступлений, как те, что касаются врожденных уродств. <…> Начав с Античности, мы показали различные фазы этого предубеждения и дошли до того момента, когда вся эта громада заблуждений, накопившихся за столько веков, обрушилась от дуновения науки». «История уродств» доктора Мартена повествует о победе разума над человеческой монструозностью: рациональный порядок берет верх над хаосом материи, правило подчиняет себе исключения, научное мышление преодолевает одно из самых трудных препятствий, раскрывает одну из самых темных тайн Творения. Мы видим, как аскетическое наблюдение постепенно высвобождает представления об уродстве из-под незапамятного груза религиозного легковерия и страха, строгое знание мало-помалу преодолевает соблазны необычного. Иными словами, такая история уродств осмысляется как часть более общего процесса расколдования странности. Таким образом, развитие тератологии составляет один из распространенных примеров секуляризации и рационализации методов наблюдения, стремлений и форм знания, воздействие которых, безусловно, ощутимо во всех западных естественных науках XVI–XVIII веков.
Итак, монстр покидает сферу сакрального, чтобы в результате исторического развития, этапы которого известны, попасть под юрисдикцию науки. Но о чем в общих чертах рассказывает эта история тератологии? Прежде всего она исследует древнейшие поверия. Существуя на границе природного мира, монстр уподоблялся зверю; нарушая законы Творения, он был воплощением его неудач; обитая у пределов известных земель, он производил на свет странные народы: тут и безглавые «блемми», и моноподы, скачущие на единственной ноге, и скиаподы, отдыхающие в тени своей огромной ступни. Происхождение монстров объяснял Аристотель, о необычайном рассказывал Плиний: основы тератологии заложила уже Античность. Так, от самого истока науки, позади человека встает гротескная тень монстра. Люди боялись его или, напротив, почитали. Христианизация этих представлений в Средние века мало повлияла на древнее наследие, вписав его в христианское учение о проклятии и грехе. Телесное уродство стало главным признаком греховности, а монстр — опасным приспешником дьявола или чудесным посланцем Бога, грозным провозвестником Его гнева, свидетельством всемогущества Небес и глашатаем земных бедствий.
История тератологии также показывает, как это религиозное толкование внешнего уродства постепенно обмирщается, уступая место неутомимой жажде необычного, из ряда вон выходящего, диковинного. В конце XV — начале XVI века Европу (прежде всего Италию и Германию) охватывает настоящая эпидемия монструозности, чему способствуют технологические успехи книгопечатания и пробуждение любопытствующего взгляда. В то время как монстры покидают окраины известного мира, чтобы переместиться в его центр, лихорадочное любопытство овладевает ученым сообществом XVI века, о чем свидетельствуют собрания монструозных рассказов и изображений в трактатах Рюэффа, Ликостена, Боэстюо и Паре и первые кабинеты редкостей с их разнообразными монструозностями. Но присутствие монстров в пестрых коллекциях ученых и любителей эпохи Ренессанса и XVII века — отнюдь не первый случай собирания и выставления напоказ необычайных образцов: разве средневековая церковь с ее запасом священных реликвий не была одним из древнейших собраний редкостей, зародышем музея для простого народа, изначальным местом представления монструозного тела? Ведь там среди святых останков — фрагментов кожи и костей, капель молока Богоматери или крови мученика, кусков дерева и гвоздей святого Креста или лоскутов плащаницы — находились диковинки из дальних стран, добыча Крестовых походов или сувениры путешествий: черепашьи панцири, рог единорога, кости карлика, зубы гиганта… Этот святой союз сакрального и необычного, где божественное сливается с удаленным, а святые соседствуют с монстрами, постепенно становится все менее прочным и наконец разрушается. В ренессансных коллекциях и трактатах странность обретает собственное, независимое от сакральной сферы, существование, достаточным оправданием которого служит любопытство.
С точки зрения длительной истории монструозности период господства такого любопытства относительно краток. Это промежуточная фаза, когда религиозные авторитеты постепенно отказываются от прав на истолкование монструозности, а новая наука еще не вполне утвердилась на своих позициях. Действительно, процесс десакрализации монструозного тела ускоряется во второй половине XVII и на протяжении XVIII века: по мере утверждения того, что Кшиштоф Помян назвал «выучкой» любопытства, разрабатывается все более точная система наблюдения и описания анатомии и физиологии уродств.
Благодаря упорядочиванию общей конфигурации объектов и методов познания, благодаря регулировке направленности любопытствующего взгляда, который постепенно удаляет из пространства науки сакральные и оккультные элементы, а также подчиняет произвольно составленные коллекции более строгому разбору и классификации, — тератологические исключения вводятся, хотя и не без некоторого сопротивления, в структурированное пространство естественно-научных собраний.
Таков контекст многочисленных полемик о монструозности, которым страстно предается XVIII век: они ведутся на страницах публикуемых отчетов и записок, в циркулирующих в определенных кругах докладах, сообщениях и письмах; в научных журналах и на заседаниях Королевской академии, а также вокруг анатомических столов и витрин первых естественно-научных музеев. Их подробности для нас сейчас не так важны, как достигнутый результат: лишенный прежнего ослепления взгляд, особая форма любознательности, постепенно освобождающаяся от наследственного груза верований и предрассудков; возрастающий разрыв между научным и бытовым пониманием аномалии монструозности. Ничего удивительного в том, что эти споры касались проблемы происхождения уродств, краеугольного камня традиционных генеалогий монструозности. Так, приблизительно двумя столетиями ранее Амбруаз Паре выдвинул тринадцать причин появления монстров, в которых просматривается несколько основополагающих принципов, где сталкиваются естественные и сверхъестественные объяснения: божественное всемогущество, дьявольские козни, влияние соответствий, «естественные» риски беременности, избыток или недостаток семени, «кровосмесительные» отношения между человеком и животным. Итак, монстр есть следствие чуда, порчи, «сигнатуры», греха или неудачного зачатия. Действительно ли врожденные уродства идут от Бога или же за ними стоит случайное стечение обстоятельств? Этим вопросом задаются участники «спора двойных монстров», который с 1724 по 1743 год будоражит ученые круги и втягивает в свою орбиту Лемери, Винслова и многих других.
Действительно ли женское воображение обладает симпатической силой, способной проникнуть в утробу через материнский взгляд и изуродовать зародыш? Так в 1727 году ставит проблему Жак Блондель в своем «Исследовании природы влияния воображения беременной женщины на развитие плода». И хотя эпоха Просвещения не дает решающего ответа на многие из этих вопросов, хотя успех постоянно переиздающихся «Разысканий истины» Мальбранша по-прежнему поддерживает богословские концепции предсуществования монструозных эмбрионов и сказки о материнском воображении, хотя отец Лафито привозит из Америки рассказы и изображения безглавцев, которые, как полагается, являются прямыми потомками придуманных Плинием-старшим диковинных народов, тем не менее видение монструозности начинает изменяться. Так, Мопертюи замечает, что ему не приходилось встречать ни одного человеческого существа, которое обладало бы частями тела, присущими другим видам; тем самым он присоединяется к тем, кто все с большей решительностью утверждает, что уродство относится исключительно к сфере медицины.
Таков итог, к которому нас приводит беглый обзор научных представлений о монструозности вплоть до XVIII века. Можно ли что-либо к нему добавить? Безусловно. Прежде всего можно поставить под вопрос идею бесперебойного прогресса разума, сопровождавшего переход представлений о монстре от суеверных к научным. Трудно оспаривать, что в рамках длительной истории толкование телесной монструозности двигалось по пути натурализации и рационализации, тем не менее этот процесс избавления монстров от ореола сверхъестественного не был ни прямым, ни бесперебойным и ассоциировался со сложным и неустойчивым комплексом чувств — испугом, извращенным удовольствием, отвращением, страстным любопытством и даже, порой, тенью сочувствия, — который выходил за рамки научных устремлений. Помимо этого, необходимо отметить, что история тератологии не является историей монструозности, хотя ее нередко принимают за таковую. История монструозности изучает другие предметы: общественное конструирование и юридическое определение монструозного факта, связанную с тератологическими демонстрациями народную культуру и литературу, торговлю человеческими уродствами, обыденную чувствительность и общественное любопытство, провоцируемое зрелищем анатомических аномалий. Эта история еще не написана: эти монстры пока лишены собственной истории.
II. Монстры в народной литературе
Итак, обратимся к небольшому фрагменту этой истории и рассмотрим один тип документальных источников, живо свидетельствующий о любопытстве, которое вызывает монструозность, о широте его распространения и многообразии порождаемых им коммерческих форм: речь о той литературе, которую распространяли бродячие разносчики. Известно, сколь важна роль такой торговли в традиционном обществе, где «набор промыслов» достигает поразительной широты и массовости и, по выражению Фернана Броделя, располагается у нижней границы экономического обмена. Известен и успех торговли вразнос печатными листками, которая, несмотря на общий упадок, выстоит вплоть до XIX века.
Монстры — один из любимых сюжетов печатных памфлетов (в силу распространенного анахронизма порой именуемых «утками»), которые, до появления «синей библиотеки» и газет, рассказывали о том, что сейчас мы назвали бы «происшествиями». Каков предмет этих памфлетов? Они сообщают о преступлениях, святотатствах, воровстве, убийствах и поединках, равно как и о следовавшей за ними справедливой каре; подробно описывают природные бедствия, эпидемии, наводнения и пожары; рассказывают о сверхъестественных и необыкновенных событиях, о небесных явлениях, видениях и чудесах, равно как и об ужасном и поразительном — проделках дьявола, призраках и монстрах. Это низовая народная литература, посвященная насилию, бедствиям и необычайному…
В городах, особенно начиная со второй половины XVI века, распространяются листки и небольшие памфлеты, которые чаще продаются вразнос, реже — в лавках; их заголовки анонсируют необычайный случай, дают его характеристику, указывают место и время; далее идет изображение монстра, сопровождаемое кратким текстом об истории его появления и назиданиями о том, какой из этого следует извлечь урок. Это одни из первых свидетельств темы монструозности в народной литературе. От этих листков «к случаю» берет исток особый жанр печатных монструозностей, который будет иметь неизменный успех, и который уже в 1550–1650-е годы, когда по рукам начинают ходить изображения анатомических отклонений, заставляет поднять вопрос о том, какова была их аудитория. Не исключительно народная: по-видимому, эти листки и памфлеты адресовались более широкой и социально недифференцированной публике и имели большой потребительский потенциал. Мемуары эпохи свидетельствуют о живейшем любопытстве, вызываемом этими бумажными чудищами. Так, Пьер де Л’Этуаль не ограничивается тем, что фиксирует в дневнике досужие разговоры на перекрестках. Он составляет коллекцию: 6 января 1609 года, проходя мимо парижского Дворца правосудия, он видит разносчика, расхваливающего гравюры с изображением двух «поразительных и ужасных» монстров; гравюры вскоре пополняют его собрание. Любопытство этого образованного буржуа ничем не отличается от простонародного изумленного ротозейства. Сходным образом, рождение монстров или встречи с ними, о которых рассказывают уличные листки, перекочевывают (часто без малейших изменений) в специальные собрания и научные трактаты, для которых они становятся частью фактического материала. Компиляции Рюэффа, Паре, Боэстюо, Личети и многих других, неоднократно пополняемые и переиздаваемые на протяжении XVI–XVII веков, приносят эти народные вымыслы в библиотеки образованной публики. И хотя главное место здесь занимают придуманные чудища, которых никто не видел и не увидит, тем не менее это первые собрания эмпирических данных по монструозности. В том, что касается монстров, различие и разграничение научного наблюдения и массового любопытства на рубеже XVII века остается смутным и неопределенным, речи эрудитов смешиваются с уличными побасенками. В стране монстров правит вымысел.
III. Образы и вымыслы
Как создавались монструозные вымыслы? Если рассматривать весь корпус этих предшественников массовых журналов, то очевидно, что их изобразительный и повествовательный ряд конструируется на основании нескольких простых принципов и правил.
Первый принцип: монстр требует изображения. Среди «происшествий» той эпохи появление монстра — событие, наиболее часто становящееся сюжетом иллюстраций. Использование изображения, по-видимому, прямо пропорционально степени вмешательства свыше, репрезентации монстров входят в систему пророческих знамений, которая помогает понять двойственный статус телесного уродства в традиционном обществе: монстр представляет собой зрелище (monstrare) и божественный знак (monere).
Второй принцип: рассказ о монструозном явлении не требует реальных монстров. Вот некоторые поразительные сообщения последней декады XVI — первых декад XVII века: семирогий монстр в Пьемонте, семиглавый в Ломбардии, «ужасный и удивительный» монстр в Миланском герцогстве, рожденный в Мессине ребенок-обезьяна, монстр, зачатый в теле околдованного мужчины в Испании, покрытый чешуей монстр с человеческим лицом в Лиссабоне, один ребенок со слоновьей головой, другой ребенок с тремя рогами в Турции. Сюда же можно добавить женщину, произведшую на свет теленка в кальвинистской Женеве (скорее всего, такое же порождение Контрреформации, как очевидно вдохновленные Реформацией «папа-осел» и «монахи-бычки»*), целую вереницу монструозных свиней и рыб, крылатых драконов и наземных чудищ. В этом фантастическом бестиарии, где смешаны человеческое и животное начала, вдруг попадаются андрогин, обнаруженный в Париже в 1570 году, «две сиамские сестры, родившиеся в 1605 году на улице де ла Бюшри у площади Мобер», еще два сиамских близнеца в Монтагри в 1649 году. В последних случаях факты свидетельствуют о том, что речь идет о реальных новорожденных.
Итак, среди бумажных монструозностей настоящие монстры являются скорее исключением. Причем до такой степени, что составители листков совершенно не стесняют себя правдоподобием: случается, что они используют одни и те же гравюры в качестве изображений разных монстров. В народной литературе вымысел часто предваряет и даже порождает реальность.
Есть соблазн видеть в этом репрезентационном злоупотреблении не более чем давние религиозные суеверия, эксплуатацию простонародного легковерия, наивные и устаревшие представления о монстрах, свойственные традиционной культуре. Однако на самом деле перед нами манифестация более общего и актуального переживания монструозности, и это подводит нас к главному различию, касающемуся нашего понимания того, как воспринималось монструозное тело, и того, какие изменения оно претерпевало в течение длительного исторического периода.
IV. Монстр и монструозность
В городах прошлого анатомические уродства представляли зрелище иного рода, чем теперь. Когда вокруг свирепствуют эпидемии и смерть, то физические стигматы, раны, врожденные недостатки и недуги вполне привычны и нзаметны, они составляют часть повседневного восприятия тела. Но даже если порог толерантности по отношению к физическим недостаткам был выше, чем сейчас, многочисленные примеры говорят о том, что классической эпохе свойственно неуемное любопытство по отношению к человеческим монстрам, выходящим за рамки ординарного и воспринимаемым как нечто чудесное или волшебное — как божественный промысел или дьявольское вмешательство. Стоит только появиться известию о рождении монстра, тут же сбегается народ, подъезжают кареты аристократов, собираются ученые. Новость подхватывают специально печатаемые по этому случаю листки, слухи раздувают, все более многочисленная толпа зевак превращает жилье, в котором произошло это событие, в театр. Монстр — предмет зрелища и повод для коммерции. Таков «опыт монстра»: непреодолимое любопытство, охватывающее все социальные страты, общественное потрясение, зрелище телесной катастрофы, переживание испуга, визуальной неустойчивости, дискурсивной остановки.
Таков монстр: внезапное присутствие, неожиданное выставление напоказ, смятение восприятия, трепещущая приостановка взгляда и речи, нечто непредставимое. Поскольку монстр, в самом полном и древнем смысле, есть диво (merveille), то есть событие, чьи этимологические корни (mirabilis) в первую очередь связаны с полем обзора (miror), с неожиданным смещением кадров восприятия, с пяленьем глаз, с явлением. С явлением нечеловеческого, с отрицанием человека в зрелище живого человека: «Монстр — живое существо, обладающее негативной ценностью. <…> Эквивалентом жизненной силы является монстр, а не смерть».
С монструозностью дело обстоит иначе: тут сильнее и присутствие и отсутствие, больше и тела и знаков, и молчания и речи. Это не внезапное крушение опыта восприятия, но систематическое конструирование образов для их потребления и циркуляции; не тревожное колебание взгляда, но любопытное чтение или слушание. Такова монструозность: не реальность, но воображение, производство образов и слов, которые должны представлять непредставимое, лобовое столкновение с нечеловечностью одного человеческого тела. Это тот же процесс, что и описанный Ле Гоффом, когда христианство помещает непредсказуемое диво в упорядоченный контекст чуда и эффект явления монстра ослабевает. Иными словами, монструозность — это замена реальных монстров виртуальными, созданными в мире знаков. Это первостепенное различие, если мы стремимся представить себе историю человеческой монструозности во всей ее длительности. Традиционное общество отличается от нашего тем, что в нем монстры сосуществуют с монструозностью, тогда как мы раз и навсегда вытеснили в область вымысла ту травму, которая ранее провоцировалась присутствием и плотью монстра.
Все это заставляет задуматься: как конструируется образ монстра? Как создаются монструозные вымыслы?
V. Конструирование монструозности
В народной культуре XVI–XVII веков существуют правила создания такого рода вымыслов. Это прежде всего относится к далеким и виртуальным монстрам, к монструозности без монстров — чисто дискурсивным продуктам и воображаемым конструкциям. Как печатные листки конструировали образ того, что никогда никто не видел? Как их аудитория немедленно опознавала монструозные изображения того, с чем не приходилось сталкиваться? Какими чертами должны были обладать эти репрезентации, чтобы казаться правдоподобными?
Первый принцип конструирования монструозного тела — гибридность. Необходимо, чтобы в монстре было что-то от человека и какие-то черты, заимствованные из животного царства. При внимательном рассмотрении изображений можно выявить правила распределения, разложения и наложения человеческих и животных элементов. Они касаются ограниченного количества поверхностей тела.
Центр и периферия: бестиальность в основном свойственна периферии тела, центр его остается человеческим. К постоянному человеческому корню прилагаются разнообразные животные частицы, приставки, суффиксы и окончания. Избыток и нехватка: если члены сохраняют человеческую форму, то монструозно их число. Так, у монстра с семью головами и семью руками, родившегося в Ломбардии в 1578 году, избыток членов сочетается с нехваткой некоторых органов: у его центральной головы лишь один глаз. У пьемонтского монстра, появившегося в том же году, также наблюдается избыток — но на сей раз животных черт: семь рогов, периферическая бестиальность (руки с когтями) и поверхностное уродство (одна нога красная, другая — синяя). И это еще одна система координат, которая свойственна правилам конструирования монструозных репрезентаций: глубина и поверхность тела. Если к этому набору добавить оппозиции «верх — низ», «простое — сложное», «лицо — тыл» и, порой, «открытое — закрытое», то при помощи такой репрезентационной грамматики можно легко очертить круг характерных для уличной литературы монструозных вымыслов. Так, у объявившегося в 1624 году «турецкого» монстра три рога, три глаза, два ослиных уха, одна ноздря, кривые и вывернутые назад ноги. Иными словами, одна человеческая черта в недостаточном количестве, другая — в избытке, еще одна поставлена задом наперед и, на периферии человеческого тела, два животных атрибута. Такого рода описания можно множить до бесконечности или самостоятельно их производить: все они будут построены по принципам этой монструозной комбинаторики.
Чем закончить краткий иконографический экскурс в мир бумажных монстров конца XVI — начала XVII века? Прежде всего за созданием таких вымыслов стоит двойная процедура: с одной стороны, систематическое преобразование человеческой фигуры, с другой — наложение на нее нечеловеческих черт. Таким образом, то, что выше было обозначено как монструозность, — двойной результат обезображивания человеческого и репрезентационная трансплантация нечеловеческих органов. Что, конечно, ставит проблему как происхождения, так и развития этой системы репрезентаций. Действительно, трудно не удивляться поразительной стабильности монструозного дискурса, узости его границ и бесконечной повторяемости.
Правила конструирования этих вымыслов образуют протовариант сюжетов, существующих в повествовательной — как иконографической, так и текстуальной — традиции порождения монстров. За гротескными очертаниями чудищ, которые населяют народную литературу в век религии, уже вырисовывается пугающая тень монстров века науки — создания Франкенштейна, обитателей острова доктора Моро, изобретенных Голливудом инопланетных существ на космических кораблях. Однако эта нарративная стабильность не должна вызывать удивление, поскольку здесь проявляется антропологическая, внеисторическая сторона монструозного воображения, а вместе с ней — чрезвычайная сложность неконвенционального способа преодоления тех границ, которые обусловлены образом человеческого тела даже в момент его «выхода» за пределы нормы. Странный парадокс: почти механическая упорядоченность фигур, представляющих крайнюю степень телесных нарушений.
Что касается истории этих образов, то она имеет преимущественно религиозный характер, хотя, конечно, стоит напомнить об их отдаленном сродстве с гибридными существами из древних мифологий. Обезображенные, диспропорциональные черты, гибридное человеческое тело, изображаемое обнаженным, закрепились в средневековой христианизированной фигуре черта.
Монстр остается признаком мирового хаоса, близким к природным бедствиям: все это знамения гнева Господня, напоминание о том, что вызвавший его грех должен быть искуплен. Таков урок, который преподается в этих листках: монстры — свидетельство божественного осуждения страстей, незаконных связей, роскоши, праздности, игры, ереси. Они напоминают о необходимости покаяния, смирения и праведного образа жизни. Перед нами светская и печатная разновидность христианской проповеди, использующей так называемые «примеры» (exempla), которая была унаследована от средневековой церковной традиции и полагалась на угрозы и страх. В этом, собственно говоря, состоит историческое измерение этих вымыслов — инструментов изобличения протестантизма, христианизации нравов, завоевания или отвоевания душ. Чем и объясняется их многочисленность в рассматриваемый нами период, время религиозных войн и наступления католической Контрреформации.
Странную фигуру представляет монструозное тело классической эпохи: с какой стороны ни взглянуть, уродства и повреждения тела, по-видимому, отсылают к образам порядка и разума. История тератологии XVI–XVII веков говорит о «расколдовании» монстров и рационализации их репрезентаций, народная литература наделяет их удивительно неизменными и устойчивыми качествами, политическая история использует их как подспорье для поддержания религиозного и социального порядка. Однако эта упорядоченность обманчива: монстр остается носителем общего смятения, провоцирует неуемное любопытство, без конца ускользает от попыток заточить его в дискурсивные или визуальные рамки. Таким образом, в желании классической эпохи подчинить монстров некоему порядку надо видеть важный исторический этап длительного подавления того, что, в пределах монструозного тела, свидетельствует о невозможности как ассимиляции, так и репрезентации нечеловеческого.
* Гравюры Лукаса Кранаха-старшего. — Прим. пер.

