Энергетические ресурсы и контроль над ними составляют сегодня основу политической и экономической конкурентоспособности многих государств. Однако «энергетическое оружие» может приносить не только пользу: три четверти государств, богатых природными ресурсами, в настоящий момент занимают первые места в списке самых коррумпированных стран мира, при этом большая их часть далека от демократического режима. «Полит.ру» публикует статью Виктора Сергеева и Севака Саруханяна, в которой речь пойдет о необходимости пересмотра видов собственности на энергетическое сырье, о природных ресурсах и мировой справедливости, а также о том, насколько политический режим государства зависит от «нефтяных» доходов. Статья опубликована в новом номере журнала «Космополис» (2008. № 3 (22)).
Проблема собственности на энергетические ресурсы, на первый взгляд, имеет два измерения: внутриполитическое и международное, и соответствующие аспекты энергетической политики можно рассматривать в рамках концепции двухуровневой игры [Putnam 1988: 60]. В такой игре первый уровень складывается из палитры интересов субъектов внутриполитического процесса относительно контроля над энергоресурсами или же установления выгодного соответствующему субъекту вида собственности на них, а второй — из политики национального государства по отношению к другим субъектам мирового политического процесса (государствам, организациям, энергетическим ТНК и т.д.).
Но концепция двухуровневой игры способна отразить лишь часть проблем и отношений, складывающихся вокруг вопроса о контроле над энергетическими ресурсами. В модели двухуровневой игры политика и интересы каждого национального государства представляются в интегрированном виде. Между тем в любом государстве есть, с одной стороны, социальные группы с различными интересами, а с другой — элиты, представляющие эти группы, но не всегда выражающие их интересы. И на уровне социальных групп, и на уровне элит идут как интеграционные, так и дезинтеграционные процессы, которые порой существенно влияют на сферы жизни, напрямую связанные с энергетической политикой. Правительство обретает реальную легитимность только при достижении консенсуса и на уровне групп, и на уровне элит (по крайней мере, консенсуса процедурного, так как добиться консенсуса интересов невероятно трудно, если не невозможно). Практически та же конструкция присутствует и на международном уровне: там действуют консолидированные национальные элиты и правительства. При этом на работу правительств влияют не только лидеры социальных групп, но и бюрократия, которая, фактически, является формой никого не представляющей элиты и, что очень важно, представителем государства как целостности.
Фактически, мы здесь имеем не двухуровневую игру, а своеобразную иерархию из четырех уровней: группы интересов, национальные элиты, национальные правительства, международные организации. Полная интеграция возможна лишь при отсутствии серьезных конфликтов на всех четырех уровнях. С этой точки зрения очевидно, что легитимным, в широком смысле этого слова, управление мировым богатством будет лишь тогда, когда в качестве легитимных будут восприниматься не только новые управляющие институты в развитых странах, но и социальные группы, элиты и бюрократия в странах, обладающих значительными природными ресурсами. С другой стороны, неравномерно распределено все мировое богатство, а не только природные ресурсы, и справедливость здесь — это не только энергетическая безопасность развитых стран, но и выравнивание жизненного уровня населения всего земного шара. Собственно, энергетической безопасности развитых стран нельзя достичь без согласия государств, богатых энергоресурсами: некоторые из них обладают значительной военной силой, а Россия — и глобальной мощью ввиду наличия ядерного оружия.
В настоящей статье мы уделим основное внимание тем проблемам, которые в первую очередь связаны с международным измерением проблемы собственности на энергоресурсы. Оснований для такого подхода несколько.
Сегодня проблема собственности на энергоресурсы и, шире, «энергетического суверенитета» создает основу для переосмысления всей Вестфальской системы — и не только с точки зрения возникновения влиятельных неправительственных акторов, но и с точки зрения установления коллективного межгосударственного контроля над «мировым богатством». И здесь дело не может ограничиться энергоресурсами, поскольку «мировое богатство» — это и технологии, и пресная вода, и знания, и образование, и интеллектуальная собственность в широком смысле этого слова. Иначе говоря, все то, что в мире распределено неравномерно.
Вместе с тем энергетическое сырье — ввиду его особой значимости в современном мире — составляет для многих стран основу национальной конкурентоспособности в политической и экономической сферах, особенно когда в других сферах (культурной, социальной, образовательной и т.д.) основы для конкурентоспособности незначительны либо вообще отсутствуют. В этих условиях форма собственности на энергетические активы — частная, государственная, смешанная, общественная и т.п. — приобретает важнейшее внешнеполитическое значение. И здесь возникает еще одна тесная взаимосвязь: между формой собственности на энергоресурсы и уровнем «эффективности» суверенитета страны.
Международное измерение проблемы собственности на энергоносители сегодня переживает своего рода ренессанс. В свое время в результате национализации нефтяной отрасли и ликвидации концессионной системы энергетические ресурсы во многих странах попали под непосредственный контроль государства или под контроль социальных сетей и групп, которые в авторитарных странах Ближнего Востока зачастую представляют государственную власть и подменяют собой политические институты. Процесс установления государственного контроля над нефтяным сектором, начавшийся в Персидском заливе в 1950-х годах, в целом завершился уже к началу 1980-х. Тогда казалось, что в вопросе форм собственности на нефть достигнут стабильный и чуть ли не долговечный статус-кво: эффективный государственный суверенитет и суверенные права на энергоресурсы как самый благоприятный и выгодный вариант для национальных правительств[1].
Между тем в конце 1980-х годов ситуация начала определенным образом меняться.
Во-первых, с распадом СССР на мировом энергетическом рынке появились новые независимые игроки со своими интересами, со своим опытом работы в нефтяном и газовом секторах и отсутствием опыта сотрудничества с иностранными государствами и компаниями. Вопрос, на какой основе налаживать такое сотрудничество, был неясен как новым игрокам, так и их будущим партнерам — зарубежным потребителям. В России это привело к появлению абсолютно невыгодных для государства проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», осуществлявшихся до последнего времени практически вне его контроля, к передаче (в основном в результате залоговой приватизации) огромных нефтяных активов в частные руки и образованию крупных частных нефтяных компаний. В то же время в газовой отрасли государственный контроль был практически полностью сохранен. Применение противоречивших друг другу схем, вне всякого сомнения, порождалось, в первую очередь, отсутствием государственного видения основ и принципов деятельности энергетического сырьевого сектора, что было характерно и для других молодых демократий постсоветского пространства.
Во-вторых, в последние годы активизировалась борьба за мировые энергетические ресурсы между крупными традиционными потребителями (США, Западная Европа, Япония) и новыми крупными игроками мировой экономической системы (Китай, Индия, Юго-Восточная Азия). Это не только отрицательно сказалось на положении Соединенных Штатов и Западной Европы, но и предоставило добывающим государствам возможность дифференцировать свою энергетическую политику и географию экспорта. В результате независимость этих государств от традиционных лидеров мировой экономики, ранее выступавших основными покупателями нефти, еще больше укрепилась.
Все эти реалии тесно связаны не только с особенностями развития мирового энергетического рынка, но и с мировым политическим процессом, так как энергетическое сотрудничество — весьма значимая сфера международных отношений. Скорее всего, именно поэтому вопросы пересмотра видов собственности на энергетические ресурсы затрагиваются в разработках и исследованиях по теории и практике международных отношений, особенно в тех из них, которые посвящены вопросам суверенитета и глобальной ответственности.
Энергетические ресурсы, играющие важную роль во внутриполитической жизни добывающих государств, часто и обоснованно называют в качестве причины внутренних и внешних неудач ряда стран: развивая энергетический сектор, эти страны не уделяют достаточного внимания другим секторам экономики. Для обозначения недостатков и последствий нерационального использования энергетических ресурсов и непропорционального развития соответствующих секторов экономики используются самые разные выражения: «ресурсное бремя», «парадокс изобилия», «голландский синдром», «неверное развитие», «экономическое несварение» и даже «экскременты дьявола».
Между тем в последние годы ширились попытки представить изобилие энергетических ресурсов в тех или иных странах как угрозу не только для них самих, но и для мирового сообщества в целом и для стабильного и устойчивого международного развития. Появился целый ряд исследований, в которых энергетические ресурсы фигурируют в связке со словами «терроризм», «диктатура», «авторитаризм», «коррупция», «наркотрафик». А словосочетание «энергетическое оружие» в мировых СМИ сегодня встречается, наверное, не намного реже, чем «ядерное оружие».
Объективные основы для беспокойства у мирового сообщества, безусловно, есть: достаточно вспомнить, что основная часть террористов, организовавших и осуществивших террористические акты 11 сентября, была связана с саудовскими нефтяными семьями. Вместе с тем география ответа Соединенных Штатов на террористические атаки 2001 г. поднимает ряд вопросов, которые не только относятся ко всей схеме причинно-следственных связей в американской внешней политике, но и показывают, что нефть — и в самом деле оружие, вот только отобрать его можно не у всякого.
Если в работах, раскрывающих негативное влияние нынешнего распределения энергоресурсов на жизнь развитых стран, вопрос рассматривается в категориях энергетической зависимости и нестабильности поставок, то исследования, посвященные отрицательной роли энергетических ресурсов в жизни развивающихся и отсталых государств, оперируют совсем другими категориями и терминами: нефть как источник коррупции, причина авторитаризма, источник финансирования терроризма, причина гражданских войн и т.п.
И в самом деле, 26 из 36 стран, богатых природными (не только энергетическими) ресурсами, находятся в первой половине списка самых коррумпированных государств мира [Oil Revenue Transparency 2007: 4]. Более половины богатых ресурсами стран не являются демократическими и стабильно движутся в сторону автократии, а нефтяные доходы позволяют правящим элитам откупаться от своих оппонентов [Freedom in the World 2006].
В исследовании Всемирного банка «Экономические основы социального конфликта и их значение для политики» (2000 г.) утверждается, что те страны, чей ВВП на 25% и более обеспечивается экспортом природных ресурсов, находятся в зоне риска с точки зрения возможного возникновения социальных конфликтов [Collier 2000: 16]. Утверждается даже, что наличие запасов энергоресурсов отрицательно сказывается на свободе слова и служит причиной усиления цензуры [Llana 2007].
В некоторых обществах доступность энергетического или любого другого важного природного ресурса делает излишними государственные институты, которые в иных случаях необходимы как условие овладения ресурсом, введения его в мировой экономический оборот и т.п. Вместо государства возникает находящийся в перманентном конфликтном равновесии конгломерат мафиозных групп, каждая из которых представляет собой «альтернативное государство» [Sergeyev 1998]. Такая социальная система предполагает существование устойчивой «военной экономики». Основным «средством производства» становится не станок, а автомат в руках члена группировки, контролирующей территорию [Сергеев 2004: 14–15].
Происходит такое, естественно, не в каждой стране, а в тех, которые чаще всего именуют «несостоявшимися государствами». В странах же с более или менее устойчивыми политическими институтами стирается грань между функциями государственных институтов и передовых социальных сетей, которые интегрируются в эти самые государственные институты и формируют на основе собственных интересов систему того, что принято называть национальными интересами [Саруханян 2007: 91–103]. Правда, до сих пор доподлинно не известно, в какой мере наличие значимых запасов природного сырья способствует разрушению государственных структур и не является ли само их разрушение основной причиной выдвижения мафиозных группировок или других социальных сетей (территориальных, семейно-родственных, этнических и т.д.).
Отдельного исследования требует и проблема влияния энергетических и иных природных ресурсов на характер политического и экономического развития страны и на политическую культуру населения. Насколько характер политического режима государства и проводимая им внутренняя и внешняя политика зависят от значительных доходов, получаемых от добычи и продажи нефти и других энергоносителей? Насколько сам характер энергетической политики государства зависит от политической культуры населения, традиций, культуры вообще, уровня развития экономики, социальной системы, образования, науки и т.д.? И, наконец, можно ли ожидать, что пересмотр существующих форм добычи и реализации природных ресурсов приведет к качественному изменению социально-экономической и политической ситуации в «несостоявшихся» и «проблемных» государствах и приблизит их к существующим международным стандартам демократии и социальной справедливости?
Перенесем эти три вопроса в практическую плоскость. Действительно ли Нигерия стала самой коррумпированной страной мира и вошла в список беднейших и наиболее авторитарных государств планеты из-за значительных доходов, получаемых от продажи нефти? Или же, напротив, нефтяная политика Нигерии неэффективна и непрозрачна как раз из-за «подданнического» типа политической культуры населения, традиций авторитарной власти и т.д.? И что изменится в социальной и политической системе этой страны, если лишить нигерийское правительство контроля над добычей, продажей нефти и расходованием средств от ее реализации?
От ответов на эти вопросы и будут зависеть эволюция взглядов на характер глобальной ответственности и суверенитета, а также возможный пересмотр форм собственности на энергоресурсы. Ведь если окажется, что в нищете населения и в процветании радикального ислама в Нигерии виновата нефть, то в механизм решения вопроса нужно будет обязательно включить пересмотр основ собственности на нефть не в пользу коррумпированных национальных правительств или борющихся за контроль над энергоресурсами социальных сетей (независимо от того, делают ли они это, вооружившись автоматами, или через более или менее демократический политический процесс с частично свободными выборами). Пока же авторы подходят к проблеме ограничения суверенитета национальных правительств в области контроля над энергетическим сырьем либо с позиций глобальной ответственности ведущих держав или несправедливости преимущественно национального контроля над энергоресурсами, либо с либеральных позиций, предполагающих исключительно рыночное регулирование энергетической политики и отрасли.
Известный американский ученый С. Краснер, автор концепции разделенного или совместного суверенитета («shared sovereignty»), в одной из своих работ не без сожаления пишет: «Никто, по крайней мере, никто из представителей власти не предложил, чтобы нефть в плохо управляемых странах была провозглашена общим достоянием человечества и поставлена под контроль, может быть, Всемирного банка» [Krasner 2004: 30]. Краснер, как и многие другие исследователи, исходит из того, что нефть играет роковую роль в развитии плохо управляемых государств — служит катализатором коррупции, конфликтов и авторитаризма. Предлагаемая им схема минимизации отрицательного эффекта энергетических ресурсов выглядит примерно так. Между государством, владеющим нефтяными запасами, и, скажем, Всемирным банком подписывается договор о создании совместного трастового органа для управления нефтяным сектором. Этот орган должен располагаться на территории развитой страны с эффективно действующей правовой системой и состоять на 50% из представителей государства-производителя и на 50% — из представителей Всемирного банка. Они и будут совместно решать судьбу доходов, получаемых от реализации энергетических проектов, которые должны концентрироваться на счетах специального фонда [Krasner 2004: 31–32].
Методологически, конечно, трудно определить, где проходит грань между «совместным» суверенитетом и ограничением суверенитета, особенно когда уже на следующих страницах своей работы Краснер в качестве другого эффективного метода установления «совместного» суверенитета называет постконфликтную интервенцию, предполагающую непосредственное нарушение суверенитета страны, причем с довольно невнятным описанием роли СБ ООН.
Что же касается трастовой системы управления нефтяными доходами, то Краснер не описывает подробно механизм принятия решений о «разделении» государством своего суверенитета с органом, представляющим международное сообщество. Кроме того, не совсем понятно, как легитимность решения властей государства о «разделе суверенитета» должна зависеть от уровня легитимности самих властей. Ведь если власть авторитарная, диктаторская и коррумпированная, то можно ли считать легитимным ее решение о «разделе суверенитета»? К тому же сам Всемирный банк, функционально являющийся глобальной структурой, все же создан правительством США, и его президент назначается указом американского президента.
Проблема здесь не только в особенностях конкретно Всемирного банка. Сегодня трудно найти международную структуру, которая адекватно и объективно представляла бы интересы всех ведущих государств мира. Единственный до последнего времени сравнительно эффективно функционирующий орган, объединяющий значительную часть этих государств, — Совет Безопасности ООН — функционально не предназначен для создания механизмов вроде «раздела суверенитета». Не говоря уже о том, что одна из основных функций ООН состоит как раз в обеспечении неприкосновенности суверенитета государств-членов. В таких условиях может получится, что государство «разделит» свой суверенитет не со всем международным сообществом, а с какой-то другой страной или группой стран, представляющей лишь часть этого сообщества. Для решения подобной проблемы может потребоваться серьезная перестройка существующих моделей международных отношений и мировой политики.
Несколько иначе проблему ограничения суверенитета и пересмотра основ собственности на энергоресурсы представляют два других американских исследователя — Дж. Фирон и Д. Лейтин. В работе «Неоопекунство и проблема слабых государств» («Neotrusteeship and the Problem of Weak States», 2004) они в качестве одной из тенденций развития международных отношений отмечают политику неоопекунства, которую, по их мнению, можно было бы также назвать «постмодерным империализмом». Правда, авторы практически не вкладывают в современное понятие империализма тех отрицательных коннотаций, которые были присущи его классическому пониманию. В отличие от классического империализма, в системе неоопекунства субъектом управляет не одно государство, а конгломерат, состоящий из внешних акторов, международных и неправительственных организаций и местных институтов [Fearon, Laitin 2004: 7]. Не углубляясь в механизмы, которые, согласно Фирону и Лейтину, ведущие страны мира должны использовать для подъема слабых государств, обратим внимание на довольно интересную концепцию, касающуюся выгод для международного сообщества от поддержания мира и стабильности в ослабевших в результате войн и катаклизмов странах. Фирон и Лейтин предлагают выработать механизм компенсации участия иностранных миротворцев в урегулировании конфликтов на территории того или иного государства. При этом они ссылаются на опыт Австралии, которая принимает активное участие в поддержании мира в Восточном Тиморе, а в качестве частичной компенсации разрабатывает расположенные здесь морские месторождения нефти [Fearon, Laitin 2004: 29]. Властям Азербайджана авторы советуют представить план использования нефтяных доходов для оплаты международных миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта, если они хотят вернуть территории бывшей автономии [Fearon, Laitin 2004: 38]
Если гипотетически допустить возможность реализации предложенной Фироном и Лейтином концепции, то деятельность миротворческих миссий ООН зачастую будет мало отличаться от деятельности наемников, охранявших по поручению нанимателей одни страны и нападавших на другие. Разумеется, миротворцы периода «постмодерного неоимпериализма» будут представлять интересы не конкретного диктатора или наркобарона, а довольно аморфного международного сообщества. Но для нас здесь важен сам принцип использования энергетических ресурсов для компенсации материальных издержек от участия в миротворческих операциях. Этот вопрос покажется особенно актуальным, если вспомнить, что неформальный список «несостоявшихся государств» сегодня возглавляет Ирак, «поддержание мира» в котором обходится правительству США в десятки миллиардов долларов. Должны ли иракские нефтяные ресурсы использоваться для частичной или полной компенсации миротворческой деятельности американских войск? В данном случае даже частичная компенсация затрат американцев будет предполагать контроль над расходованием значительной части нефтяных доходов Ирака. А что если правительство раздираемой гражданской войной страны не способно обеспечивать эффективную добычу и экспорт нефти?
Эти вопросы только на первый взгляд относятся к энергетике и экономике. В действительности они напрямую затрагивают более глобальные проблемы, важнейшие из которых — судьба суверенитета богатых энергоресурсами стран, собственность на энергоресурсы и будущее мирового порядка.
Ко всем этим проблемам обращается один из крупных европейских центров изучения энергетической политики — Институт международных исследований «Клингендаль» (Нидерланды). И проявляет при этом характерное для европейских исследовательских учреждений особое отношение к эффективности использования либеральных моделей организации энергетического сотрудничества.
В исследовании перспектив энергетической безопасности Европейского союза до 2050 г., опубликованном в 2007 г. [De Jong, Weeda 2007], Институт предлагает обсуждать и изучать энергетическую политику в сочетании с исследованием будущего международных отношений и мировой политической системы. Сам по себе подобный подход возражений не вызывает. Действительно, без учета такой взаимосвязи невозможно сколько-нибудь продуктивно рассматривать проблемы энергетической безопасности и, тем более, составлять энергетические прогнозы. Однако чересчур упрощенная схема[2] (см. рис. 1), принятая для описания политики национальных правительств и характера политических режимов, вызывает ряд вопросов.
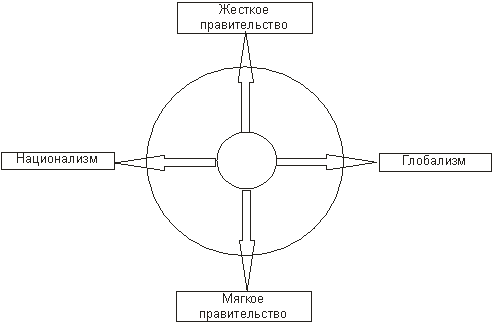
Ключевым параметром выступает характеристика режима как «мягкого правительства» («light government») или «жесткого правительства» («heavy government»). Причем авторы не отождествляют эти понятия с понятиями «слабая власть» и «сильная власть». Определения «мягкое» и «жесткое» даются исходя из степени вовлеченности национальных правительств в энергетический рынок и уровня государственного регулирования энергетических отношений. Но действительно ли определение «мягкое правительство», данное с позиций энергетической политики, не является синонимом «слабой власти» в политических терминах, а «жесткое правительство» — синонимом «сильной власти»?
В первую очередь, здесь нужно понять, кто именно является центральным звеном европейской энергетической политики: сами европейские страны или же государства, которые в ЕС не входят, да и входить по разным причинам не будут или не могут (Россия, Иран, Ирак, Алжир, Саудовская Аравия и т.д.)? Если центральными звеном считать сами европейские страны с их либеральным энергетическим рынком, то сильная политическая власть, действительно, может иметь «мягкое правительство»: в Португалии, Чехии, Испании и Словакии вовлечение власти в регулирование энергетического рынка мало что означало бы как для самой власти, так и для внешней политики этих стран, окруженных в основном такими же членами ЕС. Не говоря уже о международной и региональной энергетической безопасности, которая мало зависит от характера энергетической политики Португалии и даже Франции.
Но в Иране, Саудовской Аравии, Ираке, России ситуация совершенно иная. Во-первых, эти страны играют в системе мировой энергетической безопасности несравнимо более значительную роль, чем любые крупные потребители. Во-вторых, несмотря на то, что эти страны сильно различаются по характеру политического режима и политического процесса, очевидно, что как в России, так и в Саудовской Аравии именно энергоресурсы, форма собственности на них, порядок их экспорта и доходы от продаж обеспечивают ту степень суверенитета и то влияние, которыми пользуются в мире Москва и Эр-Рияд (хотя по этому показателю они, безусловно, несопоставимы).
Можно предположить, что если «сильная власть» и не является синонимом «жесткого правительства», то именно это «жесткое» — с точки зрения степени регулирования и вовлеченности в энергетическую политику — правительство и составляет основу существования «сильной власти». История ХХ в. знает немало примеров усиления регионального и международного влияния стран после фундаментальной реструктуризации энергетического сектора в пользу правительства. К таким результатам, в частности, привели реформы нефтяного сектора в Иране, проведенные премьер-министром М. Мосаддыком, национализация нефтяного сектора в Саудовской Аравии в 1970-х годах, восстановление лидирующих позиций государства в нефтяной отрасли России в последние годы.
У кого-то может возникнуть соблазн на основе данных примеров провести аналогию и между политическими режимами России, Ирана и Саудовской Аравии, — но это была бы чистой воды политическая спекуляция. Характер и степень зависимости от «нефтяной иглы», в отличие от иглы собственно наркотической, могут принципиально различаться, как различаются и организмы (государства), которые ею пользуются. Для множества добывающих стран энергетические ресурсы служат инструментом, позволяющим реализовывать те или иные национальные или частные интересы. В одном случае этот инструмент позволяет добиться национальной независимости, в другом — приобрести влияние в мире, в третьем — получить возможность для создания ядерного оружия, в четвертом — строить бесчисленные дворцы и содержать огромные гаремы, в пятом — покупать престижные спортивные клубы и т.д. Некоторые из подобных интересов могут быть довольно близки и понятны европейцам, другие же могут просто возмутить. И здесь важно понять: является ли свобода саудовского короля строить дворцы и финансировать экстремистские организации частью суверенитета Саудовской Аравии? От ответа на этот вопрос во многом и зависит, как относиться к суверенитету: как к важнейшему принципу мирового порядка или как пережитку старого мирового порядка.
В начале 2007 г. сенатор-республиканец Р. Лугар внес на рассмотрение сената США разработанный им проект закона под названием «Акт об энергетической дипломатии и безопасности» (S.193 — Energy Diplomacy and Security Act of 2007), предоставляющий правительству США широкую свободу действий в обеспечении энергетической безопасности страны. Законопроект вводит в оборот понятия «эффективность использования энергоресурсов» и «ответственность ведущих поставщиков», трактовка которых предусматривает возможность прямого или косвенного вмешательства во внутренние дела государств-поставщиков энергоресурсов. Важно, что данный законопроект, как и многие концептуальные разработки ученых о необходимости введения новых механизмов доступа к энергоресурсам мировых производителей, оперирует социальными категориями, важнейшая из которых — справедливость. Рядом с представлением о негативном воздействии крупных запасов энергетического сырья на развитие демократии, систему соблюдения прав и свобод человека в богатых энергоресурсами государствах появляется немного более приземленная идея о бесспорной несправедливости распределения запасов сырья по планете: отдельные народы и страны не заработали эти богатства, а просто, можно сказать, совершенно случайно оказались в тех регионах, которые играют важную роль в обеспечении жизнедеятельности нынешнего прогрессивного человечества, организовавшего свою жизнь на принципах демократии, соблюдения прав, свобод и достоинства человека. Чувство несправедливости еще больше обостряется, когда нефть и газ «случайно» попадают в руки диктаторских режимов, которые, используя эти ресурсы, проводят политику, угрожающую интересам промышленно развитых государств.
Наверное, было бы более справедливым, если бы доступ экономик ведущих обществ современного мира к мировым энергетическим ресурсам зависел не от воли каких-либо правителей, а от реальной потребности той или иной экономики в этом сырье. Однако есть одно большое «но», связанное с фактором, на который мы указали выше: для многих стран мира именно значительные запасы энергетического сырья составляют основу национальной конкурентоспособности в условиях отсутствия каких-либо других основ для достойного существования и более или менее значимого влияния на международные дела. Если обратиться к наследию А. Смита и вспомнить его определение «абсолютного преимущества», то окажется, что для многих стран нефть и газ — преимущество не только абсолютное, но и единственное.
Политическая карта современного мира, как известно, образовалась совсем недавно, и львиная доля существующих ныне государств столетиями либо страдала от колониализма ведущих европейских держав, либо находилась под властью жестоких и технологически довольно отсталых азиатских государств (Османской империи, Ирана и т.п.). Сегодня ограниченное количество государств имеют колоссальные технологические, образовательные, культурные и иные преимущества перед странами «третьего мира», и эти преимущества нельзя объяснить исключительной оригинальностью христианской, или западной, или конфуцианской, или какой-либо другой цивилизации. Они являются результатом весьма сложных исторических процессов, в некоторые периоды сопровождавшихся значительной исторической несправедливостью (прежде всего колониализмом).
И здесь возникает вопрос: не является ли справедливым более честное и адекватное отношение к суверенитету ведущих стран мира в области высоких технологий, науки, образования, культуры? Ведь страны «третьего мира» принципиально достойны доступа к этим достижениям на тех же основаниях, на которых развитые страны претендуют на более свободный доступ к мировым энергетическим ресурсам (особенно если принять во внимание, что разрыв между развитыми и развивающимися странами в отмеченных областях порой настолько огромен, что может считаться чуть ли не особенностью, заданной природой так же, как ею задано размещение запасов нефти и газа в том или ином уголке планеты).
Мы понимаем, что здесь анализ проблемы собственности уводит нас в совершенно иную сферу, имеющую большую связь с проблемами устойчивого развития, отношений Север–Юг, постколониального развития и т.п. Но мы затрагиваем эту проблематику, главным образом, с целью показать, что проблемы международного пересмотра видов собственности на энергоресурсы напрямую связаны с мировыми политическими процессами. Эта связь шире и крепче, нежели связь с экономическими проблемами мирового развития, что, на наш взгляд, и делает изучение этих проблем составной частью политической науки и науки о международных отношениях.
Примечания
Саруханян С.Н. 2007. Энергетическая политика на Южном Кавказе // «Космополис», № 2(18).
Сергеев В.М. 2004. Глобализация, модерн и черные дыры // «Космополис», № 2(8).
Collier P. 2000. Economic Causes of Civil Conflict and Their Implication for Policy. World Bank.
De Jong J., Weeda E. 2007. Europe, the EU and its 2050 Energy Storylines. CIEP.
Deciding the Future: Energy Policy Scenarios to 2050. 2007. L.: World Energy Council.
Fearon J., Laitin D. 2004. Neotrusteeship and the Problem of Weak States // «International Security», vol. 28, № 4.
Freedom in the World. 2006. Freedom House: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2006
Krasner S. 2004. Governance Failures and Alternatives to Sovereignty // CDDRL Working Papers, № 1.
Llana S.M. 2007. Rising Censorship Among World’s Oil Powers // «The Christian Science Monitor», 24.05.
Oil Revenue Transparency: A Strategic Component of US Energy Security and Anti-Corruption Policy. 2007. A Report by Global Witness. March.
Putnam R. 1988. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games // «International Organization», № 42.
Sergeyev V. 1998. The Wild East. Crime and Lawlessness in Post-Communist Russia. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
[1] Распространенная точка зрения, согласно которой государственный контроль над нефтегазовым сектором рано или поздно обязательно приводит к технологическому упадку отрасли, не подтверждается практикой. После национализации нефтяной отрасли в ряде стран мира нет никаких серьезных примеров ее упадка из-за технологической отсталости. Даже такая страна, как Иран, сумела через грамотное распределение заказов у крупных международных ТНК на технологическое обеспечение реализации новых нефтегазовых проектов получить доступ к нужным технологиям и поддерживать жизнеспособность отрасти на протяжении 30 лет после исламской революции. — Прим. авт.
[2] Данная схема в целом схожа с подходом Мирового энергетического совета, представленным в сравнительно новом Сценарии энергетической политики до 2050 г. [Deciding the Future 2007]. — Прим. авт.

