
Нобелевская неделя открылась 7 октября в Стокгольме церемонией объявления лауреатов премии по физиологии и медицине. Обладателями высшей научной награды стали работающие в США Джеймс Ротман, Рэнди Шекман и Томас Зюдхоф. Их отметили за открытия, касающиеся механизмов переноса веществ внутри клеток и между ними с помощью везикулярного транспорта.
8 октября Нобелевский комитет объявит имена лауреатов премии по физике. Эксперты прогнозируют, что победителями станут физики-теоретики Питер Хиггс, Франсуа Энглер и другие ученые, предсказавшие в 1960-е годы существование бозона Хиггса — гипотетической частицы, обеспечивающей массу всех других элементарных частиц.
Тем временем Нобелевскую премию по медицине для «Полит.ру» прокомментировал Иван Андреевич Воробьев, доктор биологических наук, профессор кафедры клеточной биологии и гистологии биологического факультета МГУ, зав. лаборатории клеточной подвижности НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ:
Были ли имена трех коллег – Джеймса Ротмана (James E. Rothman), Рэнди Шекмана (Randy W. Schekman) и Томаса Зюдхофа (Thomas C. Südhof), получивших премию сюрпризом для вас?
Я не могу сказать, было ли сюрпризом или нет, потому что я не следил конкретно за этими работами. Коллег много, их тысячи, кого выбирает Нобелевский комитет – того выбирает Нобелевский комитет. Но в данном случае речь не идет о каком-то открытии, которое было совершено совсем недавно и всё перевернуло. Речь идет скорее о том, что очень заслуженные ученые, сделавшие свои работы много лет назад, сейчас дождались очереди на получение премии.
Оправдываются слова Валерия Гинзбурга, что чтобы получить Нобелевку, надо жить долго?
Они ждали ее не так долго как Гинзбург, но последние работы по этой теме – это конец 1990-х годов, а первая статья – это 1979 год. Это вполне серьезные ученые, сделавшие вполне фундаментальный вклад. Эти работы цитируются уже на уровне учебников, а Нобелевский комитет, по-видимому, терпеливо ждал, пока авторы созреют в глазах рецензентов.
Как бы вы описали в научно-популярном ключе, почему работы этих трех ученых так важны?
С точки зрения специалистов, их вклад уникален. Я объясню проблему. Она выглядит следующим образом: внутри клетки существует очень сложная транспортная система и она занимается тем, что различные белки должны переноситься в клетки так, как они должны перемещаться.
Это очень напоминает, скажем, транспортную систему города Москвы. В нем огромное число грузовиков и есть службы, которые занимаются логистикой, которые должны обеспечивать, чтобы продукты попали в супермаркеты, а другие грузы – в другие места. Но когда мы говорим о людях, то всё понятно. Есть сотрудники, есть грузы, есть сопровождающие бумаги, есть электронные системы.
В клетке ничего этого нет. Значит, в клетке должны быть организованы такие же сложные как в обществе системы для регулирования доставки грузов по назначению. Это если объяснять происходящее самым простым языком.

Собственно говоря, идентификация этих систем в клетке и началась с работ трех Нобелевских лауреатов. Первая проблема состояла в том, что помимо белков, которые переносятся, есть еще и специальные белки, которые регулируют перенос. В нашем случае это будут, скажем, фуры, которые возят самые разные грузы. Но эти фуры тоже разные. И вот методами молекулярной генетики они были идентифицированы на уровне клетки.
Затем было показано, что когда пузырьки приходят и приносят свое содержимое, то они должны объединяться с другими мембранами строго избирательно. Это другой молекулярный процесс, и ему трудно подобрать аналогию в человеческом обществе. Но он должен происходить тоже очень специфично, какие пузырьки с кем объединяются, это четко прописано и должно быть выполнено без ошибок.
И третья, пожалуй, самая интересная часть – регуляция поведения транспортных пузырьков в нервных клетках, где пузырьки должны выходить или не выходить из клетки, и процесс должен регулироваться с такой точностью, что на его запуск или его остановку уходят миллисекунды. Это очень маленькие отрезки времени, обычно люди их не замечают. Наши нервные импульсы как раз регулируются через слияние таких пузырьков с плазматической мембраной в нервных клетках. Это – основа нервной деятельности.
Собственно то, что это именно так, биологи знали давно, а вот как этот процесс регулируется, было показано сравнительно недавно. Был получен ответ на вопрос, как достигается такая высокая точность регуляции процесса, ведь нервный импульс должен выйти с определенной точностью. Частота нервных импульсов строжайше регулируется.
Оказалось, что в мембране клетки есть система, которая называется кальциевый канал. Это белок, который может пропускать в клетку ионы кальция. Он открывается и закрывается с огромной скоростью, регулируя передачу нервных импульсов. Большая часть работ находится в учебниках, я читаю лекции студентам и уже много лет говорю об этих работах.
Правда ли, что каждый из трех ученых сделал важный весомый вклад, отдельный по важности друг от друга?

Да! В этом смысле их работы дополняют друг друга, и здесь все абсолютно корректно. Это не то что они втроем делали одну и ту же работу, которую оценили, а они занимались разными частями ранее неизвестной области. И исторически я их тоже раскладывают по времени, эти исследования проводились в разное время. Это были последовательные шаги.
Первый шаг – идентификация белков на поверхности транспортных пузырьков, то есть открытие специальных белков, которые этими пузырьками управляют. Первым был Рэнди Шекман (Randy W. Schekman), его работы самые старые в этой области. И он, собственно говоря, идентифицировал первые белки и показал, что они есть, а затем он показал, что эти белки эволюционно консервативны, то есть у разных организмов они устроены одинаково.
Это очень важно, потому что у нас есть много белков, которые у каждого свои, и тогда это не общебиологическая закономерность, а лишь закономерность для одного организма. А здесь явление общебиологическое. Вторая часть общей работы – это работы Джеймса Ротмана (James E. Rothman), который показал, как транспортные пузырьки избирательно сливаются с другими мембранами в клетке.
Дело в том, что каждый пузырек окружен мембраной. Сам по себе он устойчивый, но как определить, что этот пузырек должен объединиться с другим или с плазматической мембраной, но не с третьим пузырьком? Для этого существует специальная белковая система, которую Джеймс Ротман сформулировал в виде гипотезы о системе «докования мембран», и он нашел ключевые звенья этой системы. Сейчас она тоже является общепризнанной, хотя конкретные участники у каждого типа пузырьков, конечно, описаны пока не везде.
И третья часть, это собственно регуляция транспорта и слияния пузырьков на уровне нервной системы, регуляция выделений пузырьков, их содержимого во внешнюю среду с помощью, так называемых кальциевых каналов. Кальциевые каналы – это такие хитрые белки, которые впускают ионы кальция в клетку и очень быстро закрываются.
Можно ли представить себе эти пузырьки как обычные пузырьки воздуха, где внутри какое-то вещество?
Да, но не воздуха, а скажем мыльный пузырь, только очень маленький. Пузырьки в клетке можно представлять как мыльные пузыри, только их надо уменьшить до размеров одной десятой микрона. Это очень маленькие пузырьки, их надо снабдить специальными белками, чтобы они не развалились, положить туда специальные белки, которые будут узнавать, где этому белку надо заякориться, а потом еще белки, которые будут передавать сигналы с поверхности клетки, надо ли этому пузырьку выходить или нет.
В своем комментарии Елена Надеждина мне сказала, что у нас в России этой областью почти никто не занимается. Вы с ней согласны?
Все правильно.
Как вы бы это объяснили?
Потому что в России клеточной биологией занимается считанное число людей вообще, а считанное число людей занимаются потому, что, мягко говоря, эта область не финансируется. Не буду продолжать, а то иначе скажу что-нибудь лишнее, потому что меня фигурально выражаясь «посыпают дустом» уже скоро 40 лет, и я знаю, о чем говорю.
Сейчас государство полностью ликвидирует науку. Зачем не знаю, но это – политика. И мы работаем вопреки, а не благодаря. Есть люди, которые не уехали, которые здесь еще пытаются работать, Елена Сергеевна и ваш покорный слуга из их числа. Но мы как-то все больше похожи на мамонтов.
А я хотела сказать, что на динозавров… А можно ли сказать, что у динозавров была такая же транспортная система, как и у современных существ?
Да, конечно. Эта система к нам пришла от гораздо более древних организмов. Она такая же у одноклеточных организмов. Речь не идет о передаче нервных импульсов. Но нервные импульсы у динозавров были как у нас с вами.
Как вы оцениваете роль Нобелевской премии в деле популяризации науки?
Я считаю, что раньше было лучше. В завещании Альфреда Нобеля написано «За лучшие работы, опубликованные в этом году». Сейчас, когда дают Нобелевские премии, то ученые их получают не за новые открытия, а спустя десятилетия. На мой взгляд, это не очень хорошо. Потому что ясно, что там возникает политическая составляющая – неких научных мнений, что считать хорошим, а что нет.
Однако в данном случае премию присудили людям, чьи работы уже есть в учебниках, и в них авторы даже не всегда упоминаются, настолько их идеи вошли в мейнстрим.
Вы лично никого из них не встречали?
Нет.
На конференции в Россию никто из них не приезжал?
Тематики, о которой я говорю – внутриклеточный транспорт – в России и даже в СССР не было. Клеточных биологов в России всегда было ничтожно мало, и в СССР их было мало, не подумайте, что что-то случилось в 1991 году. Всегда было мало. И эта область у нас всегда сильно отставала от общемирового уровня, а уровень науки в этой области на 90% определялся трудами американских исследователей. Так исторически сложилось.
И чтобы была понятна общемировая ситуация. В США существует Американское общество клеточных биологов (American Society for Cell Biology). А такого же общества в Европе просто нет, и пока все попытки его создать к успеху не привели, недостаточно исследователей.
То есть их даже в Европе не хватает!
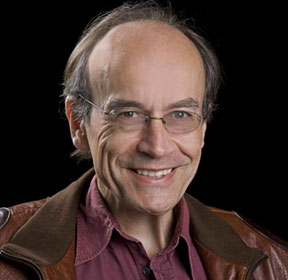
Да, и вот третий Нобелевский лауреат Зюдхов (Sudhof) – немец. Он из Германии перебрался в США, получается, что там условия для работы оказались существенно лучше, чем в его родной Германии.
Судя по тому, что постепенно нарастает число первоклассных работ из Японии, то там, безусловно, будет новый научный центр в клеточной биологии. И стремительно растет уровень работ из Китая. А мы остаемся на обочине. Конечно, у нас лучше, чем в Монголии или на острове Мадагаскар, но я не уверен, что этим нужно серьезно гордиться.
