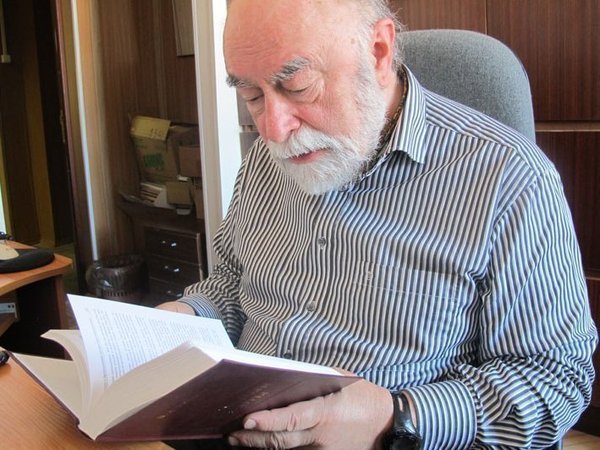
О том, можно ли распознать в детстве способности к математике, что выделяет мышление математиков от других людей читайте в интервью с докт. физ.-мат. наук, главным научным сотрудником Петербургского отделения Математического института РАН Анатолием Моисеевичем Вершиком. Беседовала Наталия Демина.
Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве – чем вы увлекались, какими науками?
Математики в моем детстве в доме не было. Моя мама Ева Яковлевна Люстерник – историк, она была очень разносторонним человеком, знала много иностранных языков, два года училась в Киевской консерватории. А потом окончила исторический факультет Cаратовского университета и стала известным историком Востока, в основном Индии и истории российско-индийских отношений в ХVIII-ХХ веках, профессором института им. Герцена, и Ленинградского университета.
Отец в юности работал наборщиком на Украине, потом окончил рабфак и Институт красной профессуры в Ленинграде, и стал политэкономом. Так что математических влияний в детстве я был лишен, скорее, влияния были гуманитарные, литературные, мать знала массу стихов, музицировала. Отец всю войну был на флоте; он и мать оставались во время блокады в Ленинграде, а меня отправили с интернатом, который до декабря 1941 г. был под Ярославлем в Галиче, а потом перебазировался в Троицк Челябинской области. В школу я пошел лишь в декабре 1941-го года, потому что до декабря никаких занятий не было. Вернулся в Ленинград в мае 1944 года.
В детстве я много болел, закалился только в эвакуации и больше не болел. Из ранних детских впечатлений, относящихся к математике, смутно запомнился лишь один случай, о котором позже подробнее рассказала мать. Мы жили на даче в предвоенный год, мне было лет 6; однажды сосед по даче, наверное, какой-то инженер, или человек, имевший отношение к технике, к физике, усадил меня, и долго разговаривал со мной, а потом сказал маме: «Ваш сын должен стать математиком». Может быть, он был прав.
Вы с ним какие-то задачки решали? Почему он так сказал, как вы думаете?
Это трудно сказать… Я фантазировал, как это бывает с детьми, и рассуждал, совершенно не помню о чем. Он меня расспрашивал и, видимо, что-то разглядел в характере ответов.
Оглядываясь назад, могу сказать, что я считаю склад своего ума в молодые годы не совсем типичным для математика. Я рано научился читать и много читал. Но была тяга к решению задачек, стандартные задачи я решал мгновенно, и даже не совсем стандартные – в основном тоже. Ну, а трудные задачи получались далеко не всегда, но я их ценил и копил, и возвращался к еще не решенным. Удовольствие от постепенного проникновения в суть вопроса всегда испытывал сильное. Мне кажется, что я рано стал понимать красоту математических рассуждений. Объяснить это трудно.
Попросите профессиональных математиков объяснить неспециалисту, что такое красивое математическое рассуждение. Это очень трудно, если вообще возможно. Вот недавно одна очень активная моя знакомая выпустила книжечку в Киеве, в которой собраны ответы разных математиков на вопрос «Назовите самую красивую с Вашей точки зрения математическую формулу». В книжечке много разных ответов: ответили многие известные математики (И.М.Гельфанд, например). Есть формулы, названные сразу многими (в основном – формулы Эйлера), но вопрос про красоту формулы конкретнее и проще, чем вопрос про красоту рассуждения.
В школьные годы и некоторое время позже я всюду на прогулку и даже в театр ходил с каким-то блокнотиком, куда записывал задачи и выкладки. Старался читать, то (немногое), что издавалась по элементарной математике в конце 40-х. Были, еще, конечно, олимпиадные задачники. Но и «настоящая» математика как-то прорывалась.
Помню, как в классе, кажется 7-м я увидел формулу на первых страницах какого-то вузовского учебника А х В = -В х А. Это формула для так называемого векторного произведения; я хорошо запомнил свое тогдашнее удивление: меня поразило, что АВ равно не ВА, как нас учили в школе, а минус ВА. Как-то мне попался какой-то справочник, где была формула для решения кубического уравнения, знаменитая формула Кардано, и я пытался ее вывести. И вот позже, уже в 8-м или 9-м классе мне подарили книгу Куранта и Роббинсса «Что такое математика» – чтение ее было очень сильным впечатлением. Разрыв между так называемой школьной математикой и математической наукой тогда почти никак не был восполнен в литературе, в этом смысле книга «Что такое математика» была открытием после почти всего прочитанного Я. Перельмана и олимпиадной литературы.
Но постепенно, начиная с 1950-х гг. стали появляться наши новые книги в этом духе и даже серии, например «Популярные лекции по математике», или «Библиотечка математического кружка». Я покупал абсолютно всё. Дама из отдела математики в «Доме книги» хорошо меня знала, и встречала новой книжкой. Они издавались в Москве (и частично в Ленинграде). Недавно я отдал всю эту библиотечку своим ученикам. Но помню, я подолгу смотрел на полки с серьезной литературой с таинственными названиями, например, запомнил одиноко стоявшую на прилавке очень долгое время «Алгебраическую теорию кос» А.А.Маркова в издании «Трудов института им. В.А.Стеклова», или «Топология косых произведений» Стинрода – одни названия чего стоили! – и думал, пойму ли я когда-нибудь это. Прошло, правда, немалое время и, действительно, понял. Это ожидание и желание предстоящего понимания, мне кажется, есть важный стимул в выборе профессии.
Но вообще я хочу сказать о детской предрасположенности к математике. Это, по-моему, малоизученная тема детской и, может быть, юношеской психологии. В чем выражается предрасположенность? Музыкальная одаренность, встречающаяся гораздо реже, видна сразу, а математические склонности, куда более частые, распознать не так просто. Я думаю, что она выражается не только в склонности к решению задач или в любви к каким-то вычислениям, как об этом думает большинство. Дело, скорее в каких-то трудноуловимых чертах самого образа мыслей, который очень захватывает молодого человека, предрасположенного к математике. Быстрота соображения, отбрасывание тривиального, острота схватывания, склонность к абстракции – все это важно для математика, и это можно увидеть в юном возрасте. Но, пожалуй, это не безусловно обязательные признаки, хотя и важные. Но более глубокие признаки склонности к математике кроятся в характере мышления и в фантазиях ребенка.
А что выделяет мышление математиков?
Это тоже трудный вопрос… Я думаю, что, несомненно, есть какие-то типичные черты общего мышления, которыми обладают те, кто уже стал профессиональным математиком, хотя они могут встречаться и раньше. Например – острое чувство тривиальности. Математик, как правило, отличает, даже если речь идет совсем не о математике, содержательное высказывание от тавтологического, нетривиальное от банального. Это не всегда легко увидеть, но это профессиональное качество. Постоянный тренинг делает его мозг активным, восприятие им суждений, (если он их слышит, оторвавшись от своих, математических мыслей) – как правило, критично.
Можно сказать, что математик инстинктивно требует доказательств. Почему среди политиков много, например, юристов и мало выходцев из математики? Ровно поэтому. Математик не скажет «Экономика должна быть экономной» или «Свобода лучше несвободы». И шутить он будет иначе. С другой стороны, я не думаю, что процент дураков среди математиков (что бы это ни означало), ниже, чем в среднем по всему человечеству; скорее всего глупость равномерно распределена по разным профессиям, но это не противоречит тому, что сказано выше.
Но давайте вернемся к детям и к юношеству. Мы можем наблюдать, это может подтвердить каждый – что в любом поколении есть какое-то сравнительно небольшое количество молодых людей, по которым видно, что они пойдут в математику и должны там и остаться, несмотря ни на что. Независимо от размера стипендии, будущих перспектив и величины пенсии. И потому, замечу мимоходом, люди, перекрывавшие при приеме экзаменов в университеты возможности учиться математике талантливым юношам и девушкам, заведомо и очевидно склонным к математике и может только к ней, – палачи и ничтожества.
Конечно, ярко выраженные склонности у детей бывают не только к математике, но именно в этом случае они, как мне кажется, наименее объяснены и изучены. Ведь они обычно скрыты и могут обнаруживаться не сразу. Если человек увлекается, скажем, ископаемыми животными или полярными исследованиями или загадками жизни, то это очень понятно и наглядно проявляется, а когда мальчик еще не знает, на самом деле, что такое математика, то это проявляется скорее, в самом строе мышления. Вообще мне кажется. что изучение детской психологии (детей в возрасте от 4 до 10 лет) – одно из самых интересных людских занятий.
Хорошие математики, и в частности, мои учителя очень строго относились к тому, что считается профессионализмом. Не так просто объяснить, что это такое; противоположное качество – любительство. И оно совсем неплохо, скажем в живописи, и даже в истории, литературе. Но в математике любительство не имеет никакого смысла. Может даже это исключительное свойство математики. Помните молодого офицера, который не кончил никаких физических факультетов, и поразил своим письмом о возможном устройстве атомной бомбы А.Д.Сахарова (об этом см. в воспоминаниях об А.Д.)
В математике, по-моему, это невозможно и гений Рамунуджан был профессионалом, а не любителем, как это может показаться из чтения его биографии. Но это, между прочим, означает, что математики очень ценят профессионализм и в других областях. Вот шуточное подтверждение этого мнения. Я объяснял В.А.Рохлину, что пришлось ему очень по вкусу, почему у нас в то время (70-гг, да и сейчас, но по другой причине) футбол был очень средний, а хоккей хороший. А дело в том, что футболистам запрещали в советское время быть профессионалами, поэтому они должны были где-то, хоть и формально, учиться или служить, а от хоккеистов почему-то этого не требовалось…
Есть такая фраза, которую произнес, кажется, известный польский математик Гуго Штейнгауз. Он автор известной популярной книги, она из моих ранних чтений, – это «Математический калейдоскоп». Его несколько самонадеянная, прошу прощения, фраза или даже принцип таков: «Математик это сделает лучше». Имелось в виду, что, если есть какой-то вопрос (не определялся – какой, но из сферы логической или рассужденческой), то математик разберется в нем лучше, чем другие люди. Конечно, это может быть оспорено, потому что и физики уж точно могут сказать, что они это сделают лучше. Но доля истины здесь содержится. Правда, не все были с этим согласны: есть замечательный оппонент этого тезиса – Блез Паскаль, которого я очень люблю.
Недавно я взял в качестве эпиграфа к статье, посвященной моему давнему другу В.И. Арнольду, умершему в 2010 году, (он, кстати, тоже любил Паскаля), фразу из его «Мыслей», вот она: «У математиков.... ум здравый, но лишь в том случае,/ если им все растолковать через определения и правила; иначе они глупы и несносны...». И еще «...математики редко бывают людьми светскими, а люди светские – математиками; ведь математики пытаются подходить математическик таким тонким вещам и вызывают всеобщий смех, когда пробуют начинать с определений...».
Увлекались ли вы в начальной школе математикой?
Я уже говорил, что, поскольку первые три класса я учился в эвакуации…
Вы жили там с бабушкой? Дедушкой?
Нет, я жил там в ленинградском интернате. Родители остались здесь, в Ленинграде, во время блокады.
Родных не было?
Была бабушка, которая приехала позже туда же, и раз в месяц навещала меня. Интернат, снимал здание школы, а учиться мы ходили в сельскую школу, в ней было не очень много детей, на полную школу не набиралось. Одно время, я помню, у нас в классе один ряд был для нас второклассников, а второй для первоклассников, а учительница – одна. Ничего, касающегося математики, я не помню. Помню многое другое, жизнь, иногда голодную; первые впечатления о детском, «интернатском» или вернее детдомовском «коллективизме», но помню, что я начал тогда писать стихи, – очень патриотические и, в основном, на военную тему; наставляла меня одна наша опытная воспитательница. Стихи даже сохранились, а один отрывок потом. по-видимому, благодаря этой воспитательнице, вошел в книжку Э. Голубевой и А. Крестинского «Рисуют дети блокады» («Аврора» 1969).
Но было еще одно скромное, но полезное для меня, событие. Я от природы – левша и в довоенное время была жестокая борьба за то, чтобы все дети писали правой рукой. Помню, что то недолгое время до войны, когда я был в детском саду, меня усиленно заставляли рисовать правой рукой. Я, кстати, правой рукой могу писать, но инстинктивно пишу левой. Недавно один мой бывший студент напомнил мне историю, как я удивил всех, ведя занятие по анализу в его группе, тем, что писал на доске попеременно то левой, то правой рукой, перебрасывая мел – фигурял, что называется. Так вот там, в эвакуации, никто и не думал меня переобучать или наказывать, и заставлять писать правой рукой, не до этого было, и я остался левшой. А когда я вернулся в Ленинград в 1944 г., то мода на переучивание закончилась. Зачем это было нужно – не знаю, интересно было бы узнать. Конечно, это жестокая система – переучивать ребенка-левшу на правшу в детские, годы, – ведь это дополнительная нагрузка на его психику.
Вы не отмечали для себя различий между левшами и правшами?
Наверно, различия есть. На эту тему как раз много, чего написано. Есть известная теория о левополушарном и правополушарном мышлении. Я плохо знаю эти вещи. Но мне, например, трудно отнести себя в точности к одному из этих двух типов. И даже ответы на тесты, которые я проходил, соответствуют то одному, то другому типу. А уж связь с тем, левша человек или правша, мне кажется совсем сомнительной. Я не знаю, есть ли статистика, какой процент левшей в России, думаю, что не очень большой, а вот в США, например, левшей огромное число людей в разных слоях общества - это бросается в глаза.
Что вам еще запомнилось из школьных лет?
Когда я вернулся из эвакуации, я поступил в замечательную школу, которую мы называли «Лицей», это Петришуле, тогда ее называли «Петершуле» – школа №222, а ее «женская» часть – школа №217. Сейчас это одна школа, как и было до революции. Это первая в Петербурге школа, основанная еще Петром I, и, конечно, немецкая, т.е. сначала она была школой для детей немцев, которые приехали в Санкт-Петербург. Сейчас в Интернете есть страничка о школе, которую ведет бывший выпускник школы Л. Левтов, живущий в Нью-Йорке.
История школы действительно очень интересна. Когда я учился, в ней был очень сильный в основном состав учителей; в частности, и математика была неплохой. Хорошо помню свою первую учительницу математики в младших класса – Лидию Николаеву Воеводину а затем была прекрасный профессионал, как мне кажется, с дореволюционным стажем – Софья Георгиевна Лудженик. Она была очень предана преподаванию, очень строга, но меня поощряла.
Однажды она взяла меня, я был тогда в 5-ом классе, и повела на занятия, которые она вела в 9-ом классе, чтобы я рассказал, как я не алгебраически решил алгебраическую задачу. Известно, что младшеклассникам любят давать такие задачи, которые решаются очень легко, если вы запишете систему двух уравнений с двумя неизвестными. А без всякой алгебры, надо еще сообразить, как решить. И она, демонстрировала меня старшеклассникам… Но кружка математики в школе не было, наверно потому, что и в моей параллели, и в школе особый интерес к математике проявляли очень немногие. В олимпиадах я участвовал с 8-го класса. В 8-ом классе, я получил приз на городской физической олимпиаде, а на математической выступил менее успешно. В 10-м классе я решил, что надо поступить в кружок. Поскольку в школе, серьезного кружка не было, решил искать кружок в городе. Я слышал, что есть кружок во Дворце пионеров, который, как потом выяснилось, был лучшим в городе, но я искал чего-то другого, потому что считал, что Дворец пионеров, это не серьезно.
Узнав, что есть единственный кружок в Университете, только для 10-го класса, я записался туда. Руководил им тогда третьекурсник, а потом известный математик и мой хороший друг Михаил Захарович Соломяк, который сейчас живет и работает в Израиле. Традиция школьных математических кружков началась в Ленинграде в 30-х гг., как и первая математическая олимпиада (1934 г.). В следующем году была первая московская олимпиада. Кружки и олимпиады в Москве, и в Питере – действительно замечательная традиция, которой страна может гордиться. Я думаю, что и во всем мире ее прежде не было. Позже все это разрослось, превратилась в мощное международное движение и даже в своего рода бизнес….
Тогда тоже использовалась система листочков? Или в Питере всё было по-другому?
В Москве и в Ленинграде олимпиадные системы были похожи. В мое время и даже много позже кружковская система, в основном, была нацелена на подготовку к олимпиадам. Каждый год издавались ротапринтные, – они у меня долго хранились, – типовые задачи к олимпиаде, и задачи предыдущих лет. При этом были районные и городские, как и сейчас, но всесоюзных олимпиад тогда не было, они появились позже, а международные еще позже. На кружках обычно решали задачи. Лекции, как правило, не читали, но нам под конец кружка руководитель прочел несколько лекций по анализу – это было очень полезно. Я уже говорил, что решение олимпиадных задач односторонне ориентирует юношу интересующегося математикой, и не только из-за налета спортивности и соревновательности, позже это стало понятным всем, кто этим занимался.
К десятому классу я уже ощутил серьезность моего выбора – выбора математики, и он был однозначен. До этого у меня были сомнения, но гуманитарные импульсы я постепенно оставил без внимания: инстинктивно понимал, что им реализоваться будет невозможно. Я готовился и к олимпиаде, выступил хорошо и стал одним из победителей по 10-му классу. Среди победителей – я с ними познакомился уже позже – была Нина Николаевна Уральцева, Владимир Николаевич Судаков, он тоже работает в нашем институте. Был еще замечательный молодой человек, Юра Добронравов, который, увы, утонул на 3 курсе, он поступил сначала на мехмат, а потом перешел на физфак.
У вас не было льгот при поступлении?
Льгот для победителей олимпиад тогда не было. Но у меня была еще серебряная медаль, и поэтому я проходил собеседование вместо приемных экзаменов. Более того, на этом собеседовании председательствующий прямо мне заявил, что победа на олимпиаде их не интересует, и ему непонятно, почему я поступаю именно на матмех, а не другой факультет университета…
А по какому предмету вам «четыре» поставили?
Я уже не помню, кажется, как ни странно, по геометрии. В том году у нас в школе почему-то вообще не было золотых медалей, и были какие-то сложные манипуляции в этой связи. Помню, чью-то фразу «Если и давать кому-то медаль, то ему…». В Петришуле до сих пор висят доски с фамилиями медалистов всех лет, и вы найдете там знакомые фамилии. Но так или иначе, медаль невероятно помогла, как показало всё последующее… Замечу, я поступал в 1951-й год – год, можно сказать, расцвета «борьбы с космополитизмом».
Пожалуй, я не буду рассказывать очень непростую, но со счастливым концом, историю своего собственного поступления, но будет здесь уместно сказать об истории приема или лучше сказать неприема «нежелательных» лиц в главные университеты страны в то и в последующее время. Это были чаще всего лица определенных национальностей, но не только, – одно время – к ним относились те, кто был на оккупированной территории во время войны; конечно, родственники репрессированных, и т.д. Эта была устойчивая советская кадровая политика, но, конечно, неафишируемая, так как она явно противоречила нормам, принятым в цивилизованных странах. Официально – этого не было.
Партийные и административные органы в институтах в те годы получали абсолютно четкое разъяснение о том, что люди не всех национальностей должны иметь возможность поступать в лучшие университеты страны. Это касалось не всех университетов и институтов. Точнее, это требовалось не от всех институтов, но если кто-то в порядке местной инициативы это тоже делал, то это лишь приветствовалось. Во всяком случае, на поверхность до конца 80-х гг. эта проблема на выходила, на что был свой запрет, и до сих пор есть люди, среди них честные, как можно видеть из Интернета, которые не верят, что это было и считают это клеветой. Что делать!?
Деталей мы до сих пор не знаем. Во всяком случае, думать, что МГУ или ЛГУ устраивал сложные системы регулирования приема из любви к искусству или из-за личной неприязни некоторых администраторов – смешно. Тем более, что со временем становилось ясно сколь рискуют своим реноме участники этих безобразий на всех уровнях. Многие исполнители были в подневольном положении. Насколько я знаю, позже (это уже в брежневские времена), была даже инструкция, видимо, ЦК КПСС, с формулировкой, что следует ограничить административный рост, занятие важных постов и, в частности, обучение в престижных вузах для лиц, национальность которых связана с государствами, проводящими враждебную политику против СССР. Все чисто, никаких стран не упомянуто.
Кто это может быть? Конечно, немцы – Германия, еще Израиль. Кто еще? Американских абитуриентов у нас не было. Впрочем, были категории лиц, не подпадающих под это определение (крымские татары, например), но для них, наверно, были свои постановления. Мне пересказывал упомянутый документ уже 1985 год, (когда моя дочь поступала на филологический факультет ЛГУ) человек, который эту инструкцию читал. Этот документ лежал в райкомах КПСС. Конечно, он было секретным, я думаю, что его вряд ли спускали ниже.
Кажется до 1948 года и ранее этого, судя по результатам, еще не было. Усиление шло постепенно. Но на моем курсе, – прием 1951 года – был единственный еврей, хотя я знаю, что кроме меня пытались поступить многие, и еще большее количества уже и не пытались, зная о регулировании. Кстати, сам я до поступления не знал об этом, был наивен и даже не верил рассказам, – так меня воспитывали родители. На параллели следующего 1952 года уже не было принято ни одного, – это был год (закрытого) процесса над «антифашистским еврейским центром» и уже готовилось «дело врачей». Логику и стилистику официальных объяснений о причинах и даже «необходимости» этого я обсуждать не хочу. Лишь один пример. Один молодой человек уже в поздние времена сказал мне, что им в спецшколе говорили, что нужны математики с устойчивой психикой и здоровой нервной системой…
Н.Н. Константинов говорил мне, что ему кажется важным отметить, что это была борьба не против евреев, а против людей, у которых уже умели самостоятельно мыслить.
Это очень возможно. Отчасти так и было, я говорил, что, в список нежелательных попадали люди из «политически неблагонадежных», диссидентских семей и пр. О том, как это делалось, я тоже много говорить не буду, хотя и это полезно знать, а знаем мы мало. В этом деле были разные периоды, в хрущевские и в 60-е годы положение, казалось, улучшилось, но не надолго. Я решил, что надо как-то документировать эти безобразия в 1977 году. Я вел тогда кружок 10-х классов в 239-й школе, она и сейчас – лучшая математическая школа в городе. Матмех вскоре должен был переезжать в Петергоф, и проблема хорошего, приема становилась весьма острой. Человек 10 или даже больше из кружка решили идти на матмех. Я написал письмо декану о том, что такие-то – очень перспективные молодые ребята и их надо поддержать и принять.
Сомнений в том, что они сдадут экзамены хорошо в нормальных условиях у меня не было. Правда, тогда я не подозревал, что мои рекомендации могут лишь ухудшить дело. Когда, приехав из отпуска, я узнал, что лишь один из 4-х «нежелательных» школьников поступил на факультет (причем благодаря высокому заступничеству), а остальные были нагло «завалены» я решил, что должен записать подробно, как их «валили» (в основном на физике и по сочинению). Но документировать это с их слов было трудно. Двое из них – самые сильные, вскоре уехали из страны….
Позже, зная, что происходит на мехмате в МГУ, я долго искал того, кто бы вместе со мной согласился написать бы об этом. Я знал о задачнике Б. Каневского и В.Сендерова, в котором были собраны «гробовые задачи», которые подбирали и давали на экзаменах, в том числе и известные математики. Я знал, что в Москве есть еще люди, которые занимаются отслеживанием экзаменов в «газовых группах», помогают с апелляциями, и, конечно, видел отношение к этим безобразиям разумных людей.
И, наконец, нашел, только 1993 г. человека, который согласился писать – Сашу Шеня. Мы с ним (главный текст писал он – о фактах, а я об общей картине) написали и опубликовали в Mathematical Intellegencer v/16, No.4, 4-5 (1994) статью “Admission to the mathematics faculty in Russia in the 1970s and 1980s.” («О приеме на математические факультеты в России в 70-80-х гг.»). Эта статья позже не раз перепечатывалась заграницей, а на русском кажется до сих пор не печаталась. Сначала, вопреки моему ожиданию, никто на статью не реагировал – ни жертвы, ни, что более удивительно, экзаменаторы (их фамилии вместе с текстом «крутых» задач приводились в статье без всяких комментариев). И только позже стали появляться свидетельства «жертв», все больше и больше… Сейчас в Интернете уже можно было бы набрать целую библиотечку рассказов о том, как это происходило.
Можно спросить: так ли это важно сейчас?
Вот, что мне кажется здесь важным. Во-первых, следует признать публично, что это было.
И сказать это надо от имени нынешней власти, которая есть правопреемник той власти. Это не так уж трудно сделать еще и потому, что сейчас, во всяком случае, при приеме этого нет. Но главное, надо признать насколько это было бесчеловечно, и как вредно для страны. Конечно, количество разных безобразий тех времен неисчислимо, и это лишь одно из них. Близкие вещи – прием в аспирантуру, защиты диссертаций (особенно в МГУ), утверждения в степенях и званиях и пр., и пр. И даже всё это вместе взятое, кажется мелочью на фоне картины тогдашней деградации страны в целом. Но ведь у нас нет никаких гарантий, что эта деградация страны при равнодушии общества не повторяется, и даже наоборот, мы видим сейчас, что почти никаких уроков – не выучено ни властью, ни обществом…
Сейчас стоит говорить об этом не столько для того, чтобы еще раз муссировать малоприятную тему, или вытаскивать какие-то имена – время прошло, срок давности вроде истек, хотя особых энтузиастов этой деятельности стоило бы отметить. Нет, это важно делать для того, чтобы стало понятна одна очень важная и сейчас вещь: всё это было делом рук тогдашней власти, а власть может делать и делает только то, что ей разрешает делать общество. Если мы все что-то открыто откажемся одобрять, то это и невозможно будет делать. Если же общество стыдливо молчит, и не хочет знать о чем-то, то власть всегда найдет энтузиастов и сможет делать все, что захочет. Хотите современные примеры? Пожалуй, Вы и так их знаете.
Почему эта практика была бесчеловечной? Ведь речь шла в основном о молодых людях, которые искренне увлекались наукой и хотели себя ей посвятить. Видя чудовищную несправедливость, они, громко выражаясь, теряли веру в человечество. Происходило совершенно откровенное растление людей, и тех, которые это делали, и жертв этой кампании, и даже окружающих. И нужно помнить, может быть, о тысячах молодых людей, у которых из-за этого была сломана жизнь. Лишь сильные характером люди смогли не сдаться, и реализовали свой талант. Таких людей было не так уж мало. Они кончали вместо МГУ или ЛГУ, скажем, институт нефтяной промышленности («керосинку»), МИИТ, ЛЭТИ или Тартуский университет и.т.д., и т.п. ходили на семинары, писали работы и добивались своего. И вот, люди, которых пытались отшвырнуть от науки, всё равно стали успешными учеными, правда, не здесь, что, впрочем, очень естественно...
Конечно, всё это относилось не только к математике и физике; что происходило на гуманитарных факультетах мне тоже хорошо известно, но у математиков всё это зафиксировано более отчетливо, хотя и неполно.
Вот поэтому разговоры о том, какая в СССР была замечательная наука, меня огорчают своей недоговоренностью.
Во второй части интервью А.М. Вершик расскажет о своей учебе в университете и последующей работе в науке, а также текущей ситуации в российской математике.
