
В этом году при поддержке Фонда им. Генриха Белля и Высшей школы экономики состоялась международная конференция «Трансформации маскулинности в XXI веке: вызовы, нормативные ожидания, статусные противоречия». В конференции приняло участие 30 ученых из России, Беларуси, Кыргызстана, Украины и Швеции. Фактически, на конференцию удалось собрать всех специалистов по исследованиям маскулинности из России и стран ближнего зарубежья – социологов, психологов, культурологов, философов, антропологов, демографов, филологов.
Как отмечает одна из организаторов научного форума Ирина Тартаковская, на конференции обсуждались такие проблемы как реорганизация приватной жизни современных мужчин, проблемы их отношений с детьми и изменения в структуре и организации современной семьи. Кроме того, предметом дискуссий были роль государства в формировании определенных форм маскулинности, практики утверждения маскулинности в молодежных культурах и фанатских группировках, нормативные преставления о мужественности в современном христианстве, маскулинность мигрантов и представителей традиционных культур, традиционные мужские сценарии и конструирование легитимирующего дискурса, проблемы сексуальности и многое другое.
Несмотря на то, что современные мужчины оказываются перед лицом множества экономических, политических и культурных вызовов, а формы их поведения и представления о нормах стремительно меняются, таких конференций проводится, к сожалению, очень мало. Эта конференция получила высокую оценку участников и дала повод для новых размышлений, дискуссий и исследований.
Мы предлагаем комментарии участников конференции, а также текст одного из докладов, посвященный моделям современного родительства.
* * *
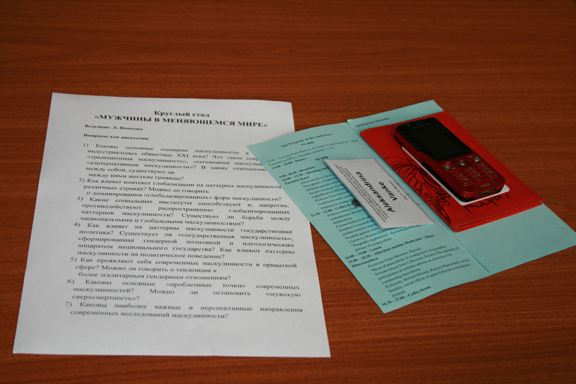
Александрина Ваньке (Институт социологии РАН, Москва):
Наиболее интересными докладами на конференции для меня оказались выступления коллег из Швеции (Carina Kullgren & Marie Hjalmarsson, University West, Sweden) «Contested masculinities: repositioning professionalism among workers and managers in the Swedish painter trade», Ирины Тартаковской (Москва) «Память об участии в военных действиях как ресурс конструирования маскулинности», Асылбека Эшиева (г. Ош, Кыргызстан) «Трансформация традиционной маскулинности в постсоветском пространстве» и Валерия Созаева (Санкт-Петербург) «Изменчивое гомосексуальное тело: визуальная репрезентация гомосексуального/мужского». Хотела бы отметить именно эти выступления, поскольку они были действительно интересными и представляли глубоко и качественно проработанные результаты эмпирических исследований.
Мой собственный доклад «Телесность мужчин рабочих профессий» был основан на материале 20 глубинных биографических интервью и строился вокруг телесности мужчин рабочих профессий, вписанной в систему трудовых отношений, а вместе с тем и в определенный дисциплинарный режим. В своем выступлении я использовала аналитические инструменты подхода Мишеля Фуко и продемонстрировала механизмы отправления власти и производства знания с помощью диспозитивного анализа, примененного к телесному знанию.
Я сравнила дисциплинарные режимы стройки и нескольких заводов в Москве и Петербурге, чтобы понять, что происходит с телом рабочих в этих двух трудовых системах. Один из выводов связан с идеей о том, что жёсткий дисциплинарный режим оказывает негативное воздействие на мужскую сексуальность, телесное и ментальное здоровье. Рабочие из такого режима имеют меньше шансов создать стабильные семейные и сексуальные отношения, чем рабочие с приемлемыми трудовыми условиями. Таким образом, система труда упорядочивает и регулирует приватную (в т.ч. сексуальную) жизнь рабочих мужчин.
* * *
Дмитрий Трунов (Пермский государственный университет):
Впечатления о конференции самые положительные. Собрались интересные люди, чтобы послушать друг друга и получить от этого удовольствие. Был выбран замечательный формат: относительно небольшое количество участников – не пассивных слушателей, а профессионалов, которые представили свой материал, и все это вдали от города, в живописном месте.
С удовольствием пользуюсь возможность выразить свою благодарность Самарскому центру гендерных исследований и, конечно, сотрудникам Фонда Генриха Бёлля за организацию конфернции и возможность в ней участвовать.
Мой доклад назывался «Идентичность против сексуальности: четыре мужских комплекса». В нем рассматривались литературные персонажи, которые убили своих любимых женщин. Предполагается, что в этих персонажах любовь и страсть оказались гораздо слабее потребности в мужской идентичности, то есть желания остаться «настоящим мужчиной».
Так, Шекспировский Отелло задушил Дездемону, когда ему сказали, что его жена ему изменила, поскольку иметь жену-изменницу было ниже его мужского достоинства. Арбенин из лермонтовского «Маскарада» отравил свою любимую супругу, поскольку не вынес мысли о том, что кто-то над ним смеется. Карандышев из «Бесприданницы» тоже не перенес, что Лариса не воспринимает его всерьез, а потому застрелил ее. Наконец, Сенька Разин жестоко распрощался со своей молодой женой на следующий день после свадьбы только потому, что «братва» заподозрила его в слабости перед женщинами.
* * *

Валерий Созаев, ЛГБТ-активист, публицист, ведущий тренингов и семинаров, нарративный практик (Санкт-Петербург):
В середине июля ученые со всей России (Иркутска, Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Сыктывкара, Улан-Удэ), Кыргызстана, Украины, Беларуси и даже Швеции встретились для того, чтобы обсудить многообразие современных практик «делающих мужчин», изменение их функций, ролей и положения в обществе, их опыт в сферах семьи, работы, войны и другие вопросы, которые относятся к компетенции «мужских исследований».
Мужские исследования – это междисциплинарная область знания, которая стала складываться в западных социально-гуманитарных науках в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в., как часть более широкого проекта феминистских гендерных исследований. Западные мужские исследования, как в прочем и вся гендерная теория, в значительной мере политизированы и направлены на преобразование социального пространства, освобождение мужчин от установки на противопоставление себя женщинам и женскому, изучение опыта разных мужчин, а также влияния гендерной социализации на мальчиков.
Именно благодаря мужским исследованиям учёные окончательно отвергали идею единой для всех (универсальной) мужественности и осознали наличие неравенства непосредственно в самой категории «мужчины». Как у любого, уважающего себя, академического сообщества, у мужских исследований есть свои академические журналы, (авторитетнейший из которых «Men and Masculinities», издаётся с 1998 г., ред. Майкл Киммел), а также свои профессиональные ассоциации, например Американская Ассоциация Мужских Исследований (American Men's Studies Association – http://mensstudies.org) и Международная Ассоциация по Исследованию Мужчин (The International Association for Studies of Men – http://www.rolstad.no/iasom).
В России ситуация с институционализацией мужских исследований, как и гендерных исследований вообще, выглядит не столь радужно, однако сами исследования ведутся. Чему подтверждением была состоявшаяся в июле конференция. Посвящена конференция была памяти И.С. Кона, которого можно назвать пионером мужских исследований в России и книги которого («Мужское тело в истории культуры», «Мужчина в меняющемся мире» «Мальчик – отец мужчины»), известны и читаются не только представителями научного сообщества.
Конференция, не смотря на явное преобладание социологов, действительна была междисциплинарной. Кроме социологов выступали психологи, философы, антропологи, культурологи, и даже один демограф. Это позволило взглянуть на, интересующий всех собравшихся, объект исследования – мужчин – комплексно, как бы в объёмном изображении. И во всём этом объёмном изображении для меня на передний план выходила проблема насилия социальных и культурных предписаний и установок над свободой субъекта к самоопределению и самоконструированию.
Елена Здравомыслова (Европейский университет в СПб), в докладе «Представления об отцовстве в партнёрских союзах с разным гендерным укладом», говорила о «тихой революции в ценностях демографического поведения и демографическом менталитете», которая произошла в середине 1990-х гг. Это привело изменению отношения у мужчин и женщин к т.н. «гражданскому браку» (т.е. не зарегистрированному в ЗАГСе). Теперь он воспринимается как возможная альтернатива зарегистрированному браку, либо как вполне допустимые пробные отношения, либо же как «истинные отношения», о которых государство не информируется и в которые оно не допускается.
Иными словами, «гражданский брак» воспринимается как пространство свободы и потенциал для гендерного равенства, в том числе и выполнении родительских функций. Идеалом для таких семей является равное родительство, активное участие отца. Однако в реальности эти семьи сталкиваются с проблемой баланса ролей и неопределённостью отцовской роли. В итоге, семьи практикуют т.н. модель «прагматического эгалитаризма», когда насилие необходимости не даёт участникам этих семейных отношений воплотить их идеалы, в результате чего они приспосабливаются к этой ситуации через «эгалитаризм различий», который можно резюмировать в фразе «различный, но равный вклад» или же «равенство в различии».
Психолог Ирина Клёцина (РГПУ им. Герцена) констатировала, что у женщин меньше требования к мужчинам, чем у мужчин к самим себе. Подобная ситуация возникает вследствие различий в гендерной социализации девочек и мальчиков и ориентировании мальчиков на воспроизводство модели «гегемонной маскулинности».
Анна Авдеева (Ред. см. ее доклад ниже) отметила изменение практик отцовства в современной России, говоря о «вовлечённом отцовстве». Данная модель отца как «заботливого воспитателя» возлагает ответственность за заботу о детях на мужчину, руководствуясь эмоциональными нуждами и потребностями самих отцов. При этом исследовательница отметила сосуществование в семьях, практикующих данную модель отцовства, эгалитарных и традиционных тенденций.

О том, как мужчины воспринимают свой опыт участия в боевых действиях, рассказывала Ирина Тартаковская (Институт социологии РАН) в докладе «Память об участии в военных действиях как ресурс конструирования маскулинности». Для тех мужчин, которые принимали участие в боевых действиях, они становятся не просто травматичным воспоминанием о постигшем их испытании, но воспоминанием о «лучших годах жизни», когда они действительно могли проявить свою мужественность. В то же время жизнь в условиях мирного общества рассматривается ими как место, в котором для них, как для мужчин места мало, либо это пространство заметно сокращено.
Михаил Рожанский (Центр независимых соц. исследований и образования, Иркутск) анализировал процессы формирования новых норм маскулинности у строителей «великих сибирских строек» и отметил, что в действительности фигура строителя выполняла функцию колонизатора во внутреннем пространстве страны.
Об изменениях в молодёжных уличных группировках говорил Дмитрий Громов (Институт этнологии и антропологии). Он отметил, что изменения касаются в первую очередь двух моментов: во-первых, если ранее уличные группировки формировались преимущественно по локальному признаку («районы»), то новейшей тенденцией стало объединение молодёжных группировок не по локальному, а по идеологическому принципу.
Продолжением этой темы можно считать рассказ Юлии Фоминой (Саратовский государственный технический университет) об околофутбольном движении, в котором идея преданности «своему» футбольному клубу и своей «фирме» становится настолько ценной, что её адепты готовы проливать кровь свою и чужую для доказательства своей правоты. Однако, это кровопролитие не акты случайного насилия, а запланированные события со своими правилами и кодексом чести, следование которому строго обязательно для всех.
Тему футбола была продолжена Ольгой Чепурной (ЕУСПб, СПбГУ). Правда уже совсем с другой, глянцевой стороны. В докладе «Медиа-образ Андрея Аршавина: спортсмен, семьянин и просто красавец» исследовательница анализировала какие паттерны поведения мужчины транслируются современными СМИ. Не случайно эти глянцевые образы не воспринимаются «как свои» приверженцами околофотбула: эти образы служат средством конструирования всё той же модели гегемонной маскулинности, в которой нет места никакой протестности. Как отметила в ходе обсуждения Елена Здравомыслова «Аршавин – это тот же Путин».
Мужские исследования стремятся предложить альтернативу патриархатной модели маскулинности, в которой мужчина, в силу разных причин, является агрессором, насильником, воином и охотником. Но «если субъект сформирован насилием, то как может быть реальным призыв к ненасилию», задаётся вопросом философ Сергей Жеребкин (Харьковский центр гендерных исследований).
Как итог многих докладов до, и многих докладов после было прозвучавшее в середине конференции выступление Ирины Костериной (Фонд им.Генриха Белля) «Миксы маскулинности в биографиях молодых мужчин». Понятие «микс», которое можно было бы перевести как «смесь» многим участникам конференции показалось наиболее удачным и эвристичным: действительно, что как не смесь сосуществование различных биографических практиках одного человека различных, порой взаимно противоположных элементов мужественности. И это касается не только традиционного и эгалитарного распределения функций в семьях, но постоянная смена всевозможных «субкультурных» идентичностей.
Как отметила исследовательница, самые большие изменения маскулинности происходят в эмоциональной сфере современных мужчин. В итоге мужчина постоянно оказывается в ситуации кризиса, когда он постоянно вынужден доказывать себе и другим свою состоятельность в качестве мужчины. Итогом преодоления этих постоянных кризисов становится ранняя смертность мужчин. Об этом был доклад демографа Александра Рамонова (НИУ ВШЭ) («Ожидаемая продолжительность здоровой жизни российских мужчин и женщин»).
Тема здоровья как проблемной сферы для современных мужчин звучала и в докладах Бориса Павлова (Гомельский государственный университет) «Отношение мужчин среднего класса к здоровью» и Елены Стрельник (Полтавский институт экономики и права) «Маскулинность и/или инвалидность: стереотипы и ресурсы их преодоления». Оказываясь в ситуации инвалидности мужчина оказывается перед лицом в том числе и гендерного кризиса: в нашем обществе распространена «бесполая модель инвалидности» поэтому мужчине приходится изобретать собственную альтернативную модель своей маскулинности.
Как бы не стремили исследователи уйти от гегеменной маскулинности, они постоянно к ней возвращались, поскольку именно она есть тот нормативный шаблон, то лекало мужественности по которому меряются все остальные альтернативные, ненормативные, неконвенциональные маскулинности. Над каждым мужчиной неотвратимо довлеет насилие гегемонной маскулинности. Она, даже если и не называется, то молчаливо присутствует, являясь немым полицейским, указывающим всем «своё место» и структурирующим социальную реальность.
Безусловно, в структуре современных маскулинностей наблюдаются статусные противоречия нормативным ожиданиям, вызванные глобальными трансформациями, и данная конференция позволила пристальнее взглянуть на идущие в обществе процессы.
Отклик В. Созаева по материалам сайта http://comingoutspb.ru/ru/news/neotvratimoe-nasilie-maskulinnosti
* * *
Анна Авдеева, аспирант Европейского университета в Санкт-Петербурге:
В июне 2011 года широкую известность получило дело Маркина. Константин Маркин, офицер Вооруженных сил, разведенный отец троих детей, обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге после того, как все российские инстанции отказали ему в предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Основанием для отказа послужили нормы действующего российского законодательства, согласно которым такой отпуск может быть предоставлен только военнослужащим женского пола. Европейский суд по правам человека счел это нарушением европейской Конвенции о защите прав человека, которую ратифицировала Россия, и вынес решение в пользу истца, однако Россия его оспорила. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Большой палате ЕСПЧ.
Интерес общественности к делу Маркина в большей степени был вызван действиями российской стороны в условиях несоответствия норм национального законодательства нормам международного права, в частности Конвенции о защите прав человека. Но перед нами не только очередной конфликт международного и национального права, но и яркий пример того, как в современной России мужчина, желающий осуществлять заботу о своих детях, сталкивается с институциональными барьерами реализации практик отцовства. Подобные ситуации особо обращают на себя внимание потому, как сегодня в российском обществе все чаще слышны разговоры о «кризисе отцовства», как о масштабной проблеме, решением которой «озабочены» общественность, эксперты и политики (Кон, 2005; Институт демографических исследований, 2008). Однако поведение вовлеченных и ответственных отцов встречает весьма слабую поддержку, или, как в случае Маркина, даже сталкивается с ограничениями.
Стоит отметить, что еще двадцать-тридцать лет назад как на Западе, так и в России решение мужчины взять отпуск по уходу за ребенком было чем-то из ряда вон выходящим. Но эмансипация женщины, активное вовлечение ее в сферу оплачиваемого труда, усиление процессов глобализации и индивидуализации оказали существенное влияние на изменение норм и ценностей общества. В настоящее время происходит переосмысление роли отца (и матери) – возникает вовлеченное отцовство, для которого характерно активное участие отца в процессе воспитания и повседневного бытового ухода за детьми. Вовлеченные отцы присутствуют на родах, осуществляют ухода за маленькими и грудными детьми, и стремятся поровну разделить с супругой бремя домашних обязанностей и ответственности. Данная модель отцовства встречает активную институциональную, государственную и общественную поддержку в ряде западных стран – например, в Скандинавии.
Положение вовлеченного отцовства в России неоднозначно, т.к. для современного российского общества характерно «сосуществование» эгалитарных и традиционных гендерных тенденций. С одной стороны, концепция вовлеченного отцовства постепенно получает общественное признание и поддержку. Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром исследования общественного мнения в 2008 году, «большинство россиян (72%) считают, что воспитанием детей обязаны заниматься оба родителя» (Институт демографических исследований, 2008). В 2008 году в Санкт-Петербурге начала свою деятельность некоммерческая организация «Папа-школа», которая продвигает концепцию ответственного отцовства. Данная организация, опираясь на опыт своих шведских коллег (первые подобные организации возникли в Швеции в 1980-х годах), организует групповые занятия для «будущих и только что состоявшихся пап», целью которых является «подготовка мужчин к рождению ребенка», которая «носит не медицинский, а социальный аспект». (Папа-школа.ру, 2011).
С другой стороны, исследования показывают, что участие мужчин в процессе ухода за детьми относительно невелико. В частности, несмотря на правовую поддержку вовлеченного отцовства российским законодательством, согласно информации различных Интернет-ресурсов без ссылки на источники только 1% отцов готовы взять отпуск по уходу за ребенком (Фонд «Детское Здоровье», 2010). Причины, по которым мужчины не «уходят в декрет», не объясняются. Однако беглый анализ различных Интернет-ресурсов, таких как блоги, форумы и тематические сайты, показывает, что мужчин пугает возможная негативная реакция со стороны работодателя и близкого окружения – друзей, знакомых и семьи. В российском обществе продолжает существовать мнение, что уход за ребенком – не «мужское дело» (Чермбарисова, 2010; Эберле, 2010; Deti@mail.ru, 2010).

Возникает вопрос: как в таких неоднозначных условиях современного российского общества на практике осуществляется активное участие отца в уходе за ребенком? Каковы ресурсы и ограничения такого участия?
Поиск ответов на эти вопросы стал целью исследования практик вовлеченного отцовства, проведенного мною в 2010-2011 гг. в рамках гендерной программы Европейского университета в Санкт-Петербурге под руководством Анны Темкиной методом полуструктированного глубинного интервью. Объектом исследования были выбраны отцы детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые характеризовали себя как вовлеченных отцов. В выборку попали мужчины с высшим образованием, представители среднего класса, работающие в офисе, в возрасте от 25 до 48 лет и проживающие на территории Санкт-Петербурга и Москвы.
Итак, какое же оно, современное российское вовлеченное отцовство? Начать стоит, пожалуй, с того, что российские вовлеченные отцы действительно активно участвуют в воспитании детей. Они не только гуляют с детьми по выходным, читают с ними книги или смотрят мультфильмы, но и купают, укладывают спать, кормят завтраком, отводят в детский сад и забирают вечером из кружков и спортивных секций. Они разделяют с супругой ответственность за благополучие детей – участвуют в обсуждении и принятии решений по вопросам воспитания и организации ухода, совместно с женой собеседуют с нянями и посещают детские сады или школы с целью выбрать наиболее подходящий вариант. Они общаются с врачами и педагогами, и интересуются жизнью ребенка – его делами, увлечениями, успехами и др.
Однако нельзя сказать, что все вовлеченные отцы в равной степени активно участвуют в процессе воспитания и ухода за детьми. Основываясь на материалах исследования, я выделила два типа вовлеченных отцов – отцы-исполнители и отцы-управляющие. Данные типы отличаются друг от друга жизненными приоритетами их представителей, а также степенью и характером участия мужчины в заботе о детях.
Для «отцов-исполнителей» приоритетное значение имеет работа, как главная сфера их самореализации, поэтому по сравнению с «отцами-управляющими» для которых семья не менее важна, чем профессиональная деятельность, они относительно пассивны. В семьях «отцов-исполнителей» большинство вопросов, связанных с воспитанием детей, таких, как, например, выбор школы или найм няни, решает мать, она же планирует и организует повседневную жизнь семьи. Однако говорить о неучастии отца данного типа в жизни ребенка нельзя (все-таки перед нами ответственный вовлеченный отец, пусть и несколько пассивный): отцы-исполнители довольно активно участвуют в повседневном бытовом уходе за детьми.
Как показало исследование, у «отцов-исполнителей» довольно часто есть определенный «набор» обязанностей. Например, они могут каждое утро кормить детей завтраком, отводить их в детский сад или школу, а по вечерам купать и укладывать спать. Они с готовностью делают и то, что выходит за рамки их «должностных инструкций», но, правда, в случае, если это инициирует их партнерша.
Чем же обусловлена подобная пассивность и безынициативность «отцов-исполнителей» в вопросах воспитания детей? Этому есть два возможных объяснения. Во-первых, оба супруга могут признавать мать более компетентной во всех измерениях заботы о детях. Компетентность супруги может основываться на ее личном жизненном опыте (например, у нее имеется ребенок от первого брака), на профессиональном опыте (педагогический стаж) или на личностных особенностях (интерес к медицине), кроме того, довольно часто «компетентность» основывается на том, что материнство и забота составляют ядро женской идентичности.
Нередко женщины рассказывают: «После рождения ребенка все поменялось. Я поняла, что просто не могу оставить, я не хочу этим [работой] заниматься, это всё не важно. Важнее семьи нет ничего!» (32 года). Во-вторых, пассивность и безынициативность отцов-исполнителей обусловлена тем, что, как уже было отмечено выше, они не рассматривают семью как сферу самореализации. Поэтому некоторые из них даже не берут отпуск после выписки их супруги из роддома, объясняя это тем, что не видят в этом необходимости.
«Отцы-управляющие», напротив, в значительной мере ориентированы на семью, которая имеет для них большое значение. Они считают, что сферой реализации мужчины в равной мере являются и семья, и работа. Кроме того, «отцы-управляющие» стремятся к равной ответственности обоих родителей, поэтому все решения в их семьях принимаются совместно с супругой. «Отцы-управляющие» участвуют в процессе принятия решений не только на этапе «совещания», но и на этапе поиска и выбора подходящего варианта: они вместе с супругами собеседуют с нянями, подыскивают и посещают детские образовательные учреждения и т.д. Помимо равной ответственности, «отцы-управляющие» стремятся к равномерному распределению обязанностей и родительской нагрузки, поэтому они активно участвуют в бытовом уходе за детьми. Однако характер их участия во многом зависит от графика и условий их работы, т.к. чаще всего именно мужчина является основным добытчиком в семье.
Обращает на себя внимание тот факт, что никто из мужчин, принимавших участие в данном исследовании, не апеллировал к естественному женскому предназначению как объяснению традиционного распределения обязанностей в семье. Участие мужчины преимущественно в сфере оплачиваемого труда, а женщины – в сфере воспроизводства объяснялось эффективностью такого разделения труда в условиях современной России. В качестве примера приведу цитату одного из информантов: «Вряд ли она [супруга] сможет найти такую [высокооплачиваемую] работу. Не потому, что она плохая или… Просто не в нашей стране. То есть, у нее профессия хорошая, но… низкооплачиваемая» (31 год).
Но если традиционное гендерное разделение ролей предполагает мужскую отстраненность и «некомпетентность в вопросах домашнего хозяйства» (Смирнова, 2010), то в семьях «отцов-управляющих» мужчина старается помогать супруге по дому (ходит за продуктами, помогает жене готовить, сам готовит по выходным, участвует в уборке квартиры). Подобное поведение свидетельствует об эгалитарных гендерных установках «отцов-управляющих». Что интересно, гендерные установки жен отцов-управляющих, при этом, скорее традиционные. «[…] Я всегда, мне кажется, в жизни была нацелена на семью» (29 лет), – говорили про себя многие из этих женщин. В основе их идентичности лежат семья и материнство, но вместе с тем, они ценят и поддерживают участие отца в воспитании и уходе за детьми.
Как уже было сказано ранее, отцы-управляющие ориентированы на ценность семьи, поэтому они вне зависимости от своего графика и условий работы, если того требуют обстоятельства, могут на время отлучится с работы для того, чтобы «выполнить свой отцовский долг». Это может быть как краткосрочным ситуативным решением – уйти с работы на пару часов, так и долгосрочным – например, после родов супруги отцы-управляющие брали отпуск (в среднем недельный) для того, чтобы первые несколько дней побыть с матерью и ребенком.
Совмещать заботу о детях и работу «отцам-управляющим» помогают такие приемы и решения, как отпроситься с работы, взять отгул и несколько дней отпуска за свой счет, придти на работу попозже или пораньше с нее уйти. Но чаще всего подобные вещи делаются неформально, «по договоренности». Никто из отцов, принимавших участие в исследовании, не оформлял отпуск по уходу за ребенком. В случае если отец оставался дома с больными детьми, он оформлял эти дни как отгул или как отпуск за свой счет, но не как больничный по уходу за ребенком. Подобное «нежелание» мужчины пользоваться своими правами, в частности, может быть обусловлено представлениями о «хорошем работнике» работодателя и отца. Концепция «хорошего работника» подразумевает, что сотрудник предан своей компании и стремится проводить на работе как можно больше своего времени, что, в свою очередь, интерпретируется как отсутствие у него семьи и детей. (Ranson, 2001: 9).
Помимо различий между отцами-исполнителями и отцами-управляющими существует довольно много общего. Представители обоих типов вне зависимости от своих приоритетов, сталкиваются с необходимостью совмещения профессиональной деятельности и отцовства, поэтому им приходится вырабатывать стратегии оптимизации времени. Так вовлеченные отцы могут разделять обязанности с супругой или выполнять их с ней по очереди, совмещать несколько дел сразу, компенсировать недостаток внимания ребенку «качественно» проведенным с ним временем в выходные или праздники или делегировать обязанности бабушке, няне или детскому саду. Что касается разделения обязанностей, то тут стоит отметить важное условие, на которое ориентируется большинство семей при распределении обязанностей, – участие мужчины в повседневном бытовом уходе за детьми не должно мешать его трудовой (профессиональной) деятельности.
Ввиду того, что значительную часть времени вовлеченный отец находится вне дома, его супруга (ее время и компетенция) представляет собой значимый ресурс, позволяющий мужчине совмещать профессиональную занятость и отцовство, т.к. организует и осуществляет бытовой уход за детьми именно мать, вне зависимости от того работает она или нет. Мать может делегировать часть функций или обязанностей бабушке, няне или детскому саду. Поэтому расширенная семья, детские образовательные учреждения и рынок коммерческих услуг также являются ресурсами реализации практик отцовства.
В заключение стоит отметить, что, как показали результаты исследования, основным барьером, с которым сталкиваются ответственные вовлеченные отцы в современной России, в широком смысле является традиционализм общества. Несмотря на то, что жены вовлеченных отцов, принявших участие в исследовании, поддерживали их участие в воспитании и уходе за детьми, гендерные установки многих из этих женщин – традиционные, и они в большей мере ориентированы на семью и на свою ответственность за нее, чем на профессиональную деятельность.
В связи с этим, а также в связи с тем, что в сфере оплачиваемого труда существует гендерное неравенство, отец довольно часто «вынужден» исполнять роль основного добытчика. В таких условиях совмещать работу и отцовство мужчине позволяют гибкий рабочий график и установки матери как партнера отца в воспитании детей. В случае если вовлеченный отец в большей степени ориентирован на профессиональную деятельность, то совмещать работу и отцовство ему позволяют компетентность матери (и ее традиционная гендерная идеология) и помощь со стороны родственников или государственных образовательных учреждений.
Литература:
1. Кон И. (2005).Отцовство как социокультурный институт. Педагогика, №9 (2005), стр. 3-16.
2. Институт демографических исследований(2008). ВЦИОМ: Роль отца в воспитании детей в России уменьшилась... URL:http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=20&idArt=1142 (дата обращения 20.06.2011)
3. Папа-школу. Ру (2011). Папа-Школа. URL: http://papaschool.ru/ (дата обращения: 20.06.2011)
4. Смиронова А. (2010) Время и пространство заботы: практики российских домохозяек. Практики и идентичности: гендерное устройство //под ред. Здравомысловой Е., Пасынковой В., Темкиной А., Ткач О. – СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге
5. Фонд «Детское здоровье». (2010). Почему российские мужчины все чаще стали сидеть дома с детьми. URL: http://www.fdz.ru/?mode=7&text_id=252 (дата обращения 18.12.2010).
6. Чембарисова А. (2010). Папа в декрете. Счастливые родители. URL: http://wday.ru/parents-online/pshychology/semja/_article/papa-vdekrete/3/&pag=3 (дата обращения 18.12.2010).
7. Эберле Н. (2010). Женщины хотят отправить в декрет мужей. Новые Новости INFOXRU. URL: http://infox.ru/03/sex/2010/06/04/Dyekryetnyyy_otpusk__print.phtml (дата обращения 18.12.2010).
8. Deti@mail.ru. (2010). Современный вариант: мама на работе, а папа... с малышом. URL: http://deti.mail.ru/rabotajuschie_mamy/papa_s_malyshom?page=2 (дата обращения 18.12.2010).
9. Ranson G. (2001) Men at Work : Change--or No Change?--in the Era of the ''New Father''. Men and Masculinities Vol. 4, No. 1 (Jul., 2001), pp. 3-26
