Одной из характерных черт современной науки как культурного феномена является практическое отождествление академических достижений с признанием коллег. Сам наш словарь научных рангов — «крупный» — «известный» — «знаменитый» — «великий» -многозначительно смешивает оценку абсолютного вклада в науку с объемом внимания, сконцентрированного на работах ученого и его личности. [1] С тех пор, как в 50-х годах возникла наукометрия, показатели цитирования превратились в основной способ измерения известности — и, соответственно, оценки научных достижений. Прослеживание потоков цитирований между научными текстами — захватывающее занятие, лучше, чем что-либо иное позволяющее нам понять структуру науки и расстановку сил в ней. Эти потоки очерчивают естественные границы академического признания. Каждый ученый обращается в первую очередь к специалистам в той же области, что и он сам. Цитирования между субдисциплинарными специальностями, и, тем более, между дисциплинами, происходят существенно реже. Их подсчет на протяжении длительных периодов времени позволяет нам сказать кое-что об изменении в относительном статусе и влиянии разных наук. Психология превратилась в основной источник импорта идей другими социальными науками в 30-40-х и сохраняла этот статус до 60-х, затем последовал спад, превративший ее из эмитента в реципиента. 80-90-е отмечены быстрым ростом влияния экономики, создавшей собственные «колонии» в политической науке и социологии. И так далее.
Наравне с этим хорошо знакомым дисциплинарным делением «пространств внимания» (Коллинз) есть еще одно, границы которого столь же четко очерчены. Поскольку ученые вынуждены обращаться к своей аудитории на каком-то языке (даже в математических статьях среди формул попадаются строчки), интеллектуальные сцены поделены на языковые зоны. Как и дисциплины, но только в значительно большей степени, языковые зоны различаются относительным статусом. Судя по цитированиям, происходящее на некоторых из них не интересует никого из тех, кто пишет на ином языке, в то время как другие привлекают пристальное внимание извне. Безусловное численное доминирование англоязычной зоны после Второй Мировой войны, а также то, что старейший и крупнейший индекс цитирования (Thomson’s Web of Science) покрывает преимущественно ее, придало ей особый статус и превратило публикации и цитирования в англоязычных изданиях практически в синоним «интернационального признания».
Степень этого признания является предметом пристального внимания ученых, администраторов и политиков в силу одного ключевого обстоятельства. Доля ученых из данной страны в общем потоке англоязычных публикаций и цитирований может рассматриваться как мера ее интернационального интеллектуального «веса», а в пересчете на единицу исследовательского персонала и финансирования — как оценка эффективности организации науки в ней. В пользу подобной оценки действует несколько соображений. Во-первых, насколько бы универсальной ни была истина, которую стремится открыть ученый, сам он находится внутри определенной институциональной академической системы, и может поддаться искушению использовать оказавшиеся в его распоряжении административные и политические рычаги для продвижения своей точки зрения. Всегда есть риск того, что в академическом споре решающими окажутся организаторский талант и идеологическая лояльность, а не научная добросовестность. Страна, подарившая миру академика Лысенко, особенно подвержена подобным страхам. Поэтому мнение тех, кто является аутсайдерами по отношению к данной системе академических институтов, приобретает особую ценность: им можно приписать особую беспристрастность, которой ни один инсайдер не обладает. Во-вторых, наука часто рассматривается (и финансируется) государственными чиновниками как символ национального престижа. Национальный престиж, однако, превращается в фикцию, если его не соглашаются подтвердить интернациональные наблюдатели — как чемпионат мира, на котором присутствуют спортсмены из единственной страны. В силу этих обстоятельств, сравнения достижений своей страны в привлечении интернационального внимания с аналогичными достижениями других стран, а также своей личной интернациональной репутации с репутацией своих оппонентов представляет собой мощный риторический ресурс в политике национальной Академии. Именно так они часто и используются.
Вряд ли удивительно, что движение за превращение публикаций и цитирований в англоязычных журналах в основной инструмент сравнения профессиональных достижений встретило значительное сопротивление. Критики указывали на то, что на вероятность появления англоязычной статьи или книги влияет множество факторов, не имеющих никакого отношения к вкладу авторов в науку. Мы сможем увидеть некоторые из возникающих проблем, если рассмотрим в деталях процесс возникновения такой публикации. Для того чтобы текст был напечатан, надо, чтобы автор его написал, а редактор англоязычного журнала — принял. Качество текста, разумеется, имеет значение, но оно не является единственной значимой переменной. Редактор стремится, прежде всего, к тому, чтобы его журнал читали и цитировали, и в этом смысле привязан к запросам своей аудитории. Интерес интернациональной аудитории к тому, что может предложить автор из данной страны, варьируется как от страны к стране, так и от дисциплины к дисциплине. Некоторые проблемы глобализированы и представляют собой одинаковый интерес для ученых в любой части света. Большинство тем исследований естественных наук относятся к этой категории. В случае с социальными и гуманитарными науками, однако, все может быть совершенно не так. Темы социальных наук часто привязаны к тому, что считается данным обществом его актуальными проблемами, но они не всегда воспринимаются как представляющие хоть какой-то интерес аудиторией за его пределами. Большинство вопросов, обсуждаемых в академических журнала по праву, актуальны именно для данной правовой системы и малоинтересны для юристов из других стран (исключение составляет разве что сравнительное и международное право). Распространенная гипотеза заключается в том, что место страны происхождения статьи в мировом устройстве имеет здесь ключевое значение: чем больше у страны ядерных боеголовок, тем больше заинтересованность в ее политической эволюции, а чем выше ВВП — тем важнее ее экономическое развитие. Наконец, среди критиков «академической миросистемы» бытует мнение, что англоязычные ученые участвуют в чем-то вроде заговора против всех остальных, предпочитая публиковать, читать и цитировать себе подобных. Некоторые наукометрические данные подтверждают существование подобных предпочтений, хотя и не указывают на точную причину селективности.
Дополнением к глобализации проблемы является партикуляризация исследовательских решений. Ответы на некоторые вопросы могут быть получены где угодно, другие — только в определенной географической точке, и ученые, пространственно близкие к ней и имеющие соответствующий институциональный допуск заведомо имеют преимущество в возможности производить интересные для всех остальных результаты. Мы чаще находим партикуляризацию решений в социальных и гуманитарных науках (легкость в доступе к архивам, владение языком, позволяющее свободно контактировать с информантами и т.д.), но не без исключений: некоторые исследования в геологии, кажется, также существенно проще для locals. [2]
Рассмотрев сторону спроса, перейдем теперь к стороне предложения. Ученый в не-англоязычном академическом сообществе постоянно стоит перед выбором — публиковаться на родном языке или на английском. Любой автор стремится к тому, чтобы писать на наиболее интересную тему, с наименьшими издержками в процессе письма (к которым, безусловно, изложение своих мыслей на чужом языке относится для всех, кроме особенно лингвистически одаренных), и обращаясь к самой большой, компетентной и многообещающей в смысле карьерных перспектив аудитории. На уровне здравого смысла, кажется очевидным, что высота языкового барьера зависит от специфики дисциплины: чем «естественнее» и математизированнее наука, тем меньше в ней требований к языковым ресурсам и, соответственно, проще публикация. Влияние относительных свойств национальной и интернациональной аудиторий более противоречиво. Размер национального академического сообщества и его относительное экономическое процветание делают обращение к нему более привлекательным, чем обращение к аутсайдерам: в нем каждый может найти для себя аудиторию и шансы на то, что удачные публикации и выступления обеспечат его карьерные перспективы. Размер и уровень экономического благосостояния в этом смысле влияют на интернациональную «видимость» (visibility) в прямо противоположных направлениях. С одной стороны, чем меньше ученых в данной стране, тем больше у них стимулов публиковаться в другой языковой зоне (как сформулировал это один информант, «если Вы эстонец, то можете публиковаться только на английском — всем эстонским социологам вы это можете рассказать на словах»). С другой стороны, большой размер сообщества позволяет компенсировать низкую вероятность публикации его отдельного члена их общей численностью. Исходя из данных, приведенных ниже, даже если на английском публикуется одна статья, написанная российским обществоведом, из 100, и каждая вторая, написанная эстонским обществоведом, это сделает российские социальные науки более видимыми, чем эстонские. Та же двойственность касается экономического благосостояния: чем больше экономические ресурсы национальной Академии, тем выше шансы на производство качественной работы (особенно в капиталоемких областях исследования, таких, как экспериментальная физика). С другой стороны, чем беднее национальная наука, тем сильнее стимулы включаться в науку интернациональную: получение исследовательских грантов и миграция выглядят гораздо привлекательнее, если аналогичных ресурсов национальная Академия не может предоставить.
Институциональная интеграция в англоязычную науку кажется последним существенным фактором. Мы можем предположить, что там, где образование ближе всего к интернациональным стандартам (как результат Болонского и других сходных процессов), образовательная миграция велика с первых же лет обучения и, соответственно, вероятность публикаций выше т.к. языковой барьер преодолевается уже на ранних этапах академической карьеры, а все сообщество включено в обмен идеями с англоязычными коллегами и легко осваивает специфические конвенции англосаксонского академического письма. С другой стороны, критики «академического колониализма» настаивают на том, что потери в результате невозвратной миграции могут оказаться больше, чем выигрыши: самые способные студенты защищаются и оседают в других странах еще до того, как начинают что-то публиковать. Наконец, с третьей стороны, в интеллектуальных обменах, как и в экономических, социальные сети позволяют сокращать транзакционные издержки: любой редактор знает, что работать существенно проще с лично знакомыми авторами, а любой автор — что легче и приятнее иметь дело со знакомым редактором. Интернационализация академической системы позволяет создавать и поддерживать академические контакты, тем самым делая публикацию существенно более простым делом. Вообще говоря, эта группу причин дает возможность критикам поставить под сомнение институционально обусловленную беспристрастность англоязычных ученых. В современной глобализированной науке организационные структуры и социальные сети свободно пересекают национальные границы, и если степень интернациональной видимости определяется интегрированностью в них, то один из главных аргументов сторонников сравнений на основании индексов цитирования оказывается под вопросом. Место административного доминирования в традиционных национальных научно-бюрократических структурах занимает контроль над распределением ресурсов интернациональными фондами и программами, но сама академическая власть над исследовательским поиском остается, просто теперь ее охват не ограничен государственными границами.
Все сказанное выше было обобщением, сделанным на основании здравого смысла и нескольких интервью. Целью исследования, о котором рапортует данная статья, было проверить, какие из перечисленных выше гипотетических связок правдоподобны в свете имеющихся статистических данных.
Единицей анализа было национальное дисциплинарное сообщество — группа людей, занимающихся данной дисциплиной в данной стране, например, «российские социологи» или «румынские экономисты». Основной идеей проекта было попробовать связать их относительную интернациональную видимость с разными параметрами дисциплины («естественность», опора на языковые ресурсы) и национальной академической системы (размер, объем финансирования, интернационализация). Основным источником оценки зависимый переменных были индексы цитирования ISI, основным источником данных о независимых — статистика UNESCO, Eurostat и OECD. Как читатель увидит, набор переменных был во многих случаях существенно ограничен характером наличных источников.
В исследование были включены 18 социально-научных и гуманитарных дисциплин — антропология, география, демография, «информационная и библиотечная наука» (information and library science), история, история и философия науки, литературоведение, лингвистика, международные отношения, менеджмент, политическая наука, право, психиатрия, психология, социальная психология, социология, философия, экономика. Отбор именно этих наук был обусловлен свойствам индексов SSCI (Social Science Citation Index) и A&HI (Arts and Humanities Index). Индексы предлагают порядка двух сотен кодировок для разных социально-научных и гуманитарных специальностей, но допускают множественные кодировки для одной и той же статьи (скажем, «психология» и «экспериментальная психология»). В выборку были включены те дисциплины, которые пересекались друг с другом не более, чем на 15% для данного набора стран (исключение составляли экономика и политическая наука, для которых пересечение составили порядка 20%). Некоторые особенности кодировки могут оказаться непривычными для отечественного читателя (например, разнесение по разным категориям «философии» и «философии науки» или «психологии» и «социальной психологии»), однако в этом случае я следовал за SSCI, который однозначно записывал их по разным графам.
Данные были собраны по 16 странам. Основу выборки составили 11 восточноевропейских постсоциалистических государств — Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Не попавшие в выборку (Албания, Беларусь, Македония, Молдова, Сербия, Украина и Хорватия) были отсеяны по чисто технической причине: основным источником статистических данных был Eurostat, что автоматически исключило не входящие в Евросоюз страны (данные по России были собраны по частям из других источников). Чтобы увеличить малый размер выборки, я добавил некоторое количество других государств. Принципами отбора здесь служило следующее: (1) страна должна была входить в Евросоюз; (2) ее государственным языком должен был быть не английский (за единственным исключением); (3) по статистическим причинам, ее доля англоязычных публикаций и цитирований должна была быть по возможности небольшой (что исключало не только Германию или Францию, но и Испанию, Швецию и Италию). Таким образом, выбор пал на Грецию, Данию, Ирландию, Португалию и Финляндию.
Таким образом, была получена выборка из 288 национальных дисциплинарных сообществ. Интернациональная видимость национальной науки может оцениваться наукометрически по двум показателям: во-первых, по количеству цитирований источников на национальном языке в источниках на других языках, и, во-вторых, по количеству статей и книг, опубликованных учеными из данной страны на других языках и их цитирований. Это исследование идет по второму пути. Для каждого из 288 сообществ была собрана информация по (1) количеству англоязычных статей в индексах, хотя бы один из авторов которых указал эту страну в качестве почтового адреса в период с 1993 по 2008 годы [3]; (2) количеству цитирований этих статей за тот же период в англоязычных журналах.
В качестве независимых переменных в анализе фигурировали характеристики национальной академической системы и дисциплины. Информация по национальным Академиям касалась трех пунктов: (1) их размера; (2) их экономического благополучия; (3) степени их интегрированности в интернациональную систему. Размер оценивался на основании данных по (а) общему количеству студентов (ISCED 5) и (б) аспирантов (ISCED 6), изучающих социальные науки, (в) количеству преподавателей высшей школы в соответствующих областях и (г) количеству научных сотрудников-обществоведов в FTE — полновременном эквиваленте (источники — UNESCO и Eurostat). Как мы увидим далее, эти показатели оказались очень тесно связаны друг с другом и с общей численностью населения. Экономическое благополучие измерялось (а) ВВП на душу населения; (б) общими ассигнованиями (прямыми государственными и со стороны учебных заведений) на проведение исследований в социальных науках; (в) долей этих ассигнований, приходящихся на одного исследователя. Наконец, интегрированность оценивалась по (а) проценту финансирования исследований в данной стране, происходящей из иностранных источников (OECD) и (б) доле и общему количеству студентов, проходящих стажировки в англоязычных странах (UNESCO).
Особенности дисциплин учитывались на основании двух показателей, сконструированных в целях данного исследования: «индекса ирландскости» и «индекса графичности». Первый показатель характеризует общую зависимость данной дисциплины от языковых средств выражения. Он был рассчитан на основании отношения числа статей по данной дисциплине, написанных учеными из Ирландии (как можно предполагать, не страдавшими от языкового барьера) к среднему их количеству, опубликованному учеными каждой из 16 избранных стран. Так, если в среднем ученые каждой страны опубликовали 181 статью по истории, а ирландские историки — 1646 — это дает нам индекс в 9.09. [4] «Индекс графичности» опирался на одно из интересных открытий в социологии науки [5]: субъективное восприятия данной дисциплины как более или менее «естественнонаучной» коррелирует на уровне, превышающем 0.9, со средней площадью графиков в статьях. Чем больше информации передается специальностью в обход языковых средств — тем более «научной» она воспринимается. Для целей этого исследования был вычислен упрощенный «индекс графичности» для 18 дисциплин — среднее количество графиков, появляющихся в статье в наиболее цитируемом журнале в базе. Вполне ожидаемым образом, индексы оказались тесно связанными: корреляция между «индексом ирландскости» и «индексом графичности» составила -0.605, результат, значимый на уровне .05 даже для крошечной выборки в 18 дисциплин: чем больше дисциплина полагается на графические средства передачи информации, тем меньше роль средств языковых, и, соответственно, тем меньше преимущество ученых, для которых какой-то язык является родным.
Существенной проблемой для исследования было то, что, хотя единицей анализа являлись дисциплинарные сообщества, многие данные могли быть собраны только по странам в целом — так, все данные о численности сообщества или доступных ему академических ресурсах относились к стране в целом, не к отдельным дисциплинам. Умозрительно, можно представить себе ситуацию, в которой эти ресурсы распределяются неравномерно от страны к стране, и, скажем, болгарские антропологи получают существенно больше денег на исследования, чем болгарские социологи, а вот у их венгерских коллег все наоборот. К несчастью, при нынешнем состоянии интернациональной статистики науки это предположение практически невозможно проверить. Поэтому большая часть сравнений далее проводится или между странами, или между дисциплинами в целом. Со всеми необходимыми в таком случае оговорками, кажется, что избранная стратегия анализа смогла принести некоторые надежные и нетривиальные результаты. [6]
Основные различия в интернациональной видимости национальных Академий подводит График 1, на котором отражены (а) общее количество англоязычных статей, в написании которых участвовали авторы из данной страны; (б) количество статей в индексе, цитирующих статьи из предыдущего пункта; (в) среднее количество цитат на статью по странам.
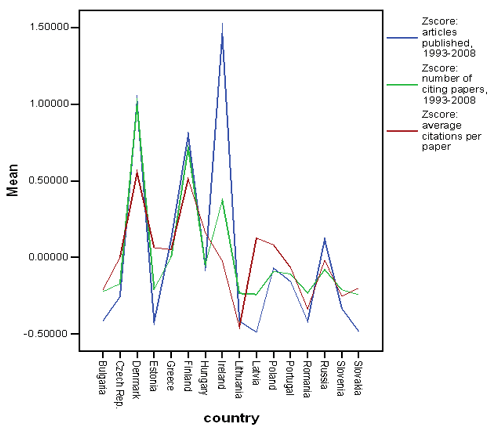
Мы видим, что изгибы этих трех линий более-менее точно повторяют друг друга. Чем больше статей, написанных учеными из данной страны, мы находим в массиве, тем выше, в среднем, количество цитат на статью. Это хорошо укладывается в исходную модель расчетливого редактора, отбирающего тексты, способные привлечь цитирования — и демонстрирует, что для ученых из разных стран шансы написать цитируемую статью ощутимо варьируются. [7] На одном полюсе находятся Литва и Румыния (1.3 и 1.7 цитаций на статью соответственно), производящие меньше всего статей, на другом — Дания и Финляндия с 4.6 цитатами на статью, производящие больше всего. Интересны несколько отклонений от этого общего паттерна. Одним из них является Ирландия, которая цитируется гораздо реже, чем можно предполагать на основании числа публикаций — меньше не только лидирующих Финляндии и Дании, но и Эстонии, Венгрии и Польши. Предположительно, языковой барьер является более существенным препятствием на уровне взаимодействия с редакцией, чем на уровне последующего восприятия статьи целевой аудиторией. Тексты, которые редакция все-таки считает необходимым принять, несмотря на менее совершенный английский (и, иногда, необходимость массированной корректуры) закономерно оказываются в среднем лучше тех, которые не проходят такого отбора — такова мораль, которую можно извлечь из этого распределения. Вторым отклонением является Латвия, которая обязана примерно половиной всего объема цитирований (276 цитат из 521) одной-единственной статье по психиатрии, написанной латвийским ученым в соавторстве с коллегой из Стокгольма. Устранив этот выброс, мы обнаружим, что Латвия переместилась существенно ниже (1.8 цитаций на статью).
Такой же разброс мы обнаруживаем, когда обращаемся к вариациям в цитировании статей по разным дисциплинам (График 2). В соответствии с хорошо известным паттерном, среднее число цитирований возрастает по мере того, как мы приближаемся к естественнонаучному концу дисциплинарного спектра: от литературоведения (0.2), истории (0.3) и философии (0.4) к психиатрии (7.5), географии (4.1) и психологии (4.2). Неожиданными являются исключительно высокие баллы социальной психологии (9.0) и менеджмента (5.7). Высокая цитируемость социальной психологии обусловлена господством одного жанра исследований: кросс-культурных тестирований, в которых исследователи из десятка стран ставят идентичные эксперименты на своих студентах или раздают им идентичные вопросники. В исследованиях в этом стиле лидером команды часто выступает один из самых цитируемых англоязычных психологов, который обычно был также автором всего результирующего текста — предсказуемо популярного. Остальные собирали материал, получая в качестве вознаграждения соавторство. [8] Высокая цитируемость менеджмента частично обусловлена тем, что в соответствующую рубрику попадали статьи по автоматизированным системам управления; впрочем, необходимо отметить, что в мэйнстримных изданиях по менеджменту число цитирований также существенно превышает среднее по социальным наукам. На этом графике мы не находим никакой связи между числом статей и числом цитирований — наблюдаемые паттерны характерны для дисциплин в целом, а общий размер дисциплины, видимо, слабо зависит от практик цитирования в ней. [9]
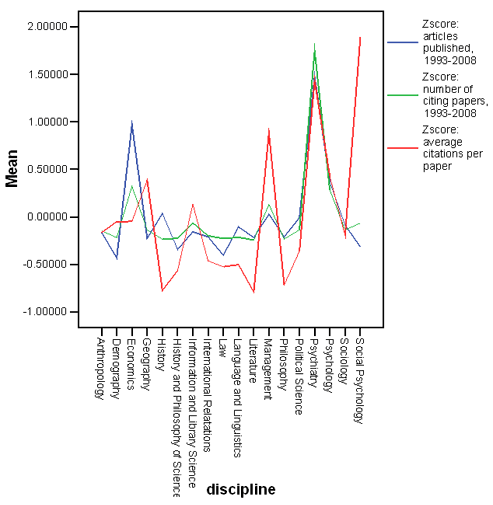
Следующий график (График 3), сводящий вместе среднее число цитирований по странам и дисциплинам, предназначен скорее для того, чтобы проиллюстрировать основные тенденции, чем для того, чтобы наглядно представить информацию по отдельным случаям (ее можно найти в Таблице 1 ниже). На нем хорошо видны как общие закономерности (линия России везде ниже линии Дании, все линии забираются выше на психиатрии и уходят вниз на литературоведении), так и многочисленные исключения.
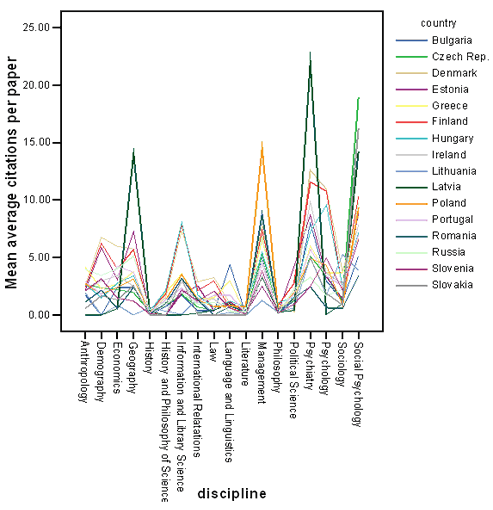
На следующем графике (График 4) мы можем проследить масштаб этих исключений на пяти избранных случаях — Литве, Польше, России, Эстонии и Финляндии. Финляндия показывает самые высокие результаты по 9 дисциплинам из 18, Эстония — по 4, Польша и Россия — по 2, Литва — по 1. При этом самый впечатляющий пик приходится на долю польского менеджмента (представленного более, чем 120 статьями, так что его успех нельзя списать на результат единичной удачи), а Эстония показывает самые низкие результаты из всех пяти стран по философии науки и истории. И так далее.

Мы можем попробовать получить грубую оценку того, до какой степени интернациональная видимость отдельного национального дисциплинарного сообщества предопределена общими свойствами науки в данной стране и характеристиками данной дисциплины. Эта оценка строится на определении того, с какой точностью можно предсказать количество статей и среднее число цитирований для данного сообщества зная, во-первых, средние показатели для данной страны и, во-вторых, средние показатели для данной дисциплины. На более техническом языке, речь идет о регрессионном анализе, использующем число публикаций и цитирований по 288 сообществам в качестве зависимой переменной, а указанные средние — в качестве независимых. Результат свидетельствует о существенной, но не абсолютной роли характеристик стран и дисциплин: R² — статистическая мера, характеризующая точность предсказания, которое можно осуществить на основании включенных в анализ характеристик — составляет 0.511 для публикаций и 0.613 для цитирований. [10] Многое объясняется факторами, относящимися, по всей видимости, к уникальной истории данного сообщества — влиянии исключительных личностей и силе обстоятельств. [11]
| Бол- гария | Че- хия | Да- ния | Эсто- ния | Гре- ция | Фин- лян- дия | Вен- грия | Ир- лан- дия | Лит- ва | |
| Антропология | 1.73 | 2.68 | 2.57 | 2.18 | 4.14 | 2.39 | 2.66 | 2.15 | 1.93 |
| Демография | .00 | 2.36 | 6.76 | 5.86 | 2.29 | 6.24 | 1.50 | 2.95 | .00 |
| Экономика | 2.40 | 2.21 | 5.97 | 3.08 | 2.70 | 4.00 | 2.78 | 3.44 | .86 |
| География | 2.42 | 1.94 | 5.75 | 7.23 | 3.75 | 5.70 | 3.40 | 2.50 | .00 |
| История | .07 | .32 | .36 | .12 | .22 | .31 | .28 | .20 | .67 |
| История и философия науки | .71 | .82 | 1.53 | .00 | 1.94 | 1.83 | 2.15 | .80 | .33 |
| Библиотечная наука | 1.75 | 1.78 | 7.37 | 1.88 | 3.57 | 7.90 | 8.05 | 2.86 | .06 |
| Международные отношения | .38 | .69 | 2.89 | 2.52 | 1.38 | 2.12 | 1.71 | 1.11 | 1.50 |
| Лингвистика | .33 | .40 | 3.26 | .38 | 1.48 | 2.97 | .71 | 1.42 | .00 |
| Право | 4.36 | 1.16 | 1.01 | 1.14 | 2.99 | .61 | 1.22 | .29 | .20 |
| Литературоведение | .00 | .15 | .24 | .22 | .03 | .16 | .71 | .09 | .00 |
| Менеджмент | 4.90 | 5.26 | 7.82 | 2.50 | 6.60 | 7.37 | 5.44 | 4.77 | 1.27 |
| Философия | .12 | .54 | .99 | .20 | .69 | .84 | 1.06 | .24 | .23 |
| Политическая наука | 1.29 | 1.25 | 2.82 | 4.25 | 1.37 | 2.78 | 1.56 | 1.99 | .62 |
| Психиатрия | 7.99 | 5.12 | 12.59 | 8.71 | 6.00 | 11.56 | 7.24 | 9.86 | 4.96 |
| Психология | 2.97 | 3.40 | 10.95 | 3.34 | 3.68 | 10.76 | 9.56 | 3.63 | 1.71 |
| Социология | 1.22 | 1.19 | 3.78 | 1.39 | 3.68 | 2.38 | 2.50 | 2.71 | 5.25 |
| Социальная психология | 5.13 | 18.96 | 8.58 | 8.90 | 6.64 | 10.33 | 7.16 | 7.83 | 3.88 |
| Средние по странам | 2.10 | 2.80 | 4.63 | 3.00 | 3.00 | 4.60 | 3.30 | 2.70 | 1.30 |
| Лат- вия | Поль- ша | Пор- туг- алия | Румы- ния | Рос- сия | Сло- вения | Сло- вакия | Средние по дисцип- линам | |
| Антропология | .00 | 2.71 | 2.91 | 1.14 | 3.99 | 2.11 | .57 | 2.24 |
| Демография | .00 | 1.82 | 1.78 | 2.14 | 3.44 | 3.14 | 1.67 | 2.62 |
| Экономика | .57 | 2.39 | 4.26 | .56 | 4.04 | 1.47 | 1.32 | 2.63 |
| География | 14.00 | 3.14 | 3.71 | 2.40 | 5.12 | 1.22 | 2.57 | 4.05 |
| История | .33 | .22 | .16 | .12 | .43 | .08 | .00 | .27 |
| История и философия науки | .00 | 1.31 | 1.35 | 1.00 | 1.16 | .00 | .00 | .94 |
| Библиотечная наука | .00 | 3.52 | 2.36 | 3.19 | 1.94 | 2.18 | 3.13 | 3.22 |
| Международные отношения | .17 | 1.32 | 1.03 | 1.29 | .93 | 1.21 | .00 | 1.26 |
| Лингвистика | .40 | .73 | 1.72 | .00 | 1.11 | 2.07 | .00 | 1.06 |
| Право | 1.00 | .80 | 1.74 | .73 | .34 | .59 | .00 | 1.14 |
| Литературоведение | .00 | .75 | .13 | .26 | .26 | .08 | .00 | .19 |
| Менеджмент | 3.29 | 14.48 | 4.39 | 8.73 | 6.95 | 3.83 | 3.33 | 5.68 |
| Философия | .25 | .35 | .36 | .24 | .18 | .19 | .44 | .43 |
| Политическая наука | .40 | 1.95 | 1.84 | 1.50 | 2.27 | .94 | 1.33 | 1.60 |
| Психиатрия | 21.93 | 4.93 | 5.70 | 2.47 | 3.29 | 2.49 | 5.00 | 7.49 |
| Психология | .05 | 4.33 | 3.39 | .65 | 1.67 | 4.97 | 1.88 | 4.18 |
| Социология | 1.00 | .86 | 2.52 | .56 | 2.23 | 2.14 | .88 | 2.14 |
| Социальная психология | 14.20 | 9.36 | 6.95 | 3.42 | 9.77 | 6.55 | 16.25 | 8.99 |
| Средние по странам | 3.10 | 3.10 | 2.80 | 1.70 | 2.70 | 2.00 | 2.10 |
Общие результаты оценки влияния размера сообщества на его интернациональную видимость подводит График 5.
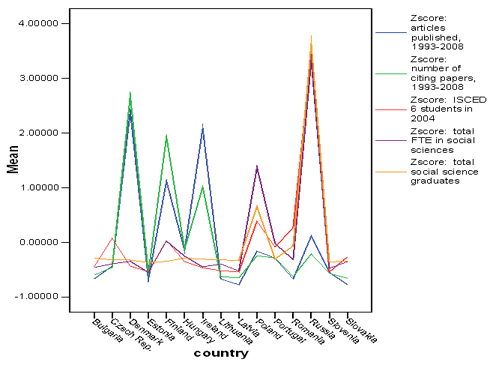
Мы не обнаруживаем на нем вовсе никакого влияния численности студентов и аспирантов, изучающих социальные науки в стране Х, профессоров, преподающих их, и исследователей, развивающих их [12], на количество публикаций и среднее число цитирований. Разные показатели, характеризующие размер академических популяций, оказываются тесно связаны друг с другом, демонстрируя относительное однообразие организации сектора науки и высшей школы в современных обществах. Корреляция Спирмена между ними составляет порядка 0.8-0.9 — результаты, значимые на уровне 0.00 даже для выборок в 18 случаев. При этом, одна-единственная величина — количество исследовательского персонала в FTE — оказывается связанной напрямую с числом публикаций (коэффициент корреляции Спирмена .550), хотя при данном размере выборки эта связь и значима только на уровне 0.05. График 6 иллюстрирует отношение между числом ученых и количеством публикаций. Как и по всем остальным демографическим параметрам, Россия безусловно лидирует по численности, за ней с сильным отрывом следует Польша, за ними — на существенно более низком уровне все остальные. По числу публикаций, однако, лидируют Ирландия, Финляндия и Дания.
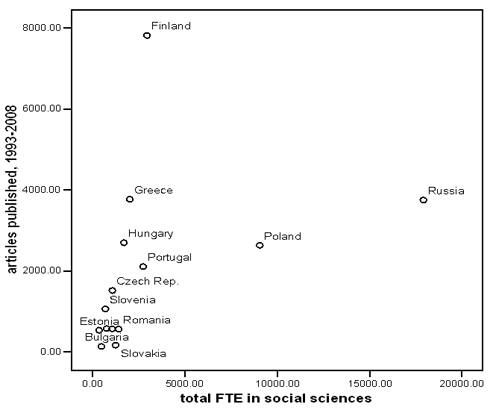
Гипотеза внутреннего рынка, упоминавшаяся выше, предполагает, что стимулы публиковаться на иностранном языке тем слабее, чем больше национальное дисциплинарное сообщество. Данные, которые суммирует График 7, не подтверждают это предположение — нет никакой однозначной связи между размером сообщества и вероятностью англоязычной публикации. Над планкой в три англоязычные публикации на одного научного сотрудника за 15 лет [13] поднимаются только англоязычная Ирландия (14.1 публикаций) и Дания (10.1), далее с большим отрывом следует Финляндия (2.4). Прочие страны делятся на два эшелона — набирающие порядка 1.5-2 публикаций (Венгрия, Греция, Словения, Чехия, Эстония) и набирающие менее одной, среди которых список замыкают Словакия (0.14), Россия (0.21) и Польша (0.29). Нет никакой связи между этим порядком и численностью исследовательского персонала.
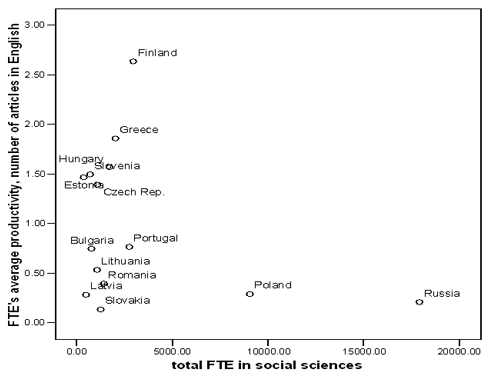
График 8 описывает отношения между средней продуктивностью ученых, измеренной в опубликованных англоязычных статьях, и их же результативностью в привлечении интернационального цитирования. Страны выстраиваются по почти идеальной диагонали, от Финляндии до Словакии. Ирландия и Дания отсутствуют на картинке, поскольку их отображение сгрудило бы все остальные точки в одну массу. Из них Дания находится на той же диагонали, но существенно выше и правее (10.1 публикация, 54.5 цитирований на FTE), а Ирландия — немного над ней (14.1 публикация, 45.5 цитирований).

Эти данные не так-то просто интерпретировать. И прямую, и обратную зависимость среднего числа англоязычных публикаций от размера сообщества можно было бы объяснить без труда, в первом случае — через контроль над инфраструктурой интернационального «рынка идей», во втором — через замещающее влияние национального рынка. Объяснить же полное отсутствие связи куда сложнее. Одна из интерпретаций заключается в «эффекте ниши», открытой для обществоведов из каждой страны какими-то обстоятельствами, внешними по отношению к качеству их работы. Возвращаясь к использованному выше примеру, если число публикаций и частоты цитирований ученых из какой-то страны прямо пропорционально заинтересованности англоязычной аудитории в ней, то распределение статей и ссылок будет совершенно независимо от численности этих ученых. Много или их или мало, они никогда не поднимутся над квотой. Проблема в том, что распределение публикаций и средних цитирований по отдельным дисциплинам не вписываются ни в какое мыслимое описание того, что может представлять интерес для западных ученых. Как объяснить то, что эстонские политологи опубликовали больше статей (63), чем румынские (36), болгарские (31) или словенские (54), не говоря уже о литовских (21) и латвийских (20), и лишь немного меньше, чем португальские (74), причем цитировались чаще, чем политические ученые из любой другой страны в выборке, включая Данию и Финляндию (4.5 цитат на статью)? Нужно значительное воображение, чтобы подыскать подходящую причину, лежащую в области геополитики. [14] Точно так же на уровне отдельных дисциплин не срабатывает и другое объяснение: через дискриминацию англоязычными обществоведами остальных по принципу идеологической близости. После одной из первых публичных презентаций результатов этого исследования коллега доверительно спросил меня: «Проверяли ли вы возможность того, что чаще цитируются ученые из стран НАТО?» Я проверял, используя годы, прошедшие с момента принятия страны в НАТО в качестве независимой переменной (для стран не-членов НАТО значение переменной было принято равной 0), а количество публикаций — в качестве зависимой, и не нашел значимых корреляций. Более точное предсказание оказалось возможно дать на основании лет, прошедших с момента принятия страны в Евросоюз. Здесь корреляция Спирмена достигла значения 0.46 (приближающегося к 5% значимости). Эта зависимость в дальнейшем, однако, оказалась полностью поглощена другой, существенно более отчетливой, которая рассматривается в следующем параграфе.
Интернациональная статистика щедро снабжает нас данными о финансировании наук, и именно в этой области мы обнаруживаем самые неожиданные результаты. График 9 суммирует отношения между уровнем жизни в стране (измеренным ВВП на душу населения), затратами на исследования в социальных науках в государственном и образовательном секторах на условную единицу исследовательского состава, средним количеством англоязычных статей и средним числом цитирований, приходящихся на одного исследователя. Мы обнаруживаем, что все корреляции значимы на уровне 0.01 — исследовательский бюджет в пересчете на одного ученого можно с поразительной точностью (коэффициент корреляции Спирмена = 0.982) предсказать, зная, каков ВВП на душу населения, а зная то и другое — вычислить, каково средняя продуктивность ученого в англоязычных статьях (корреляция с исследовательским бюджетом = 0.71) и количество привлеченных им цитат (0.847). Европейские страны очень однородны в определении доли бюджета, отводимого на науку в целом и даже на отдельные ее области [15], а ученые очень предсказуемы в том, сколько статей какой цитатной привлекательности они производят на эти деньги.
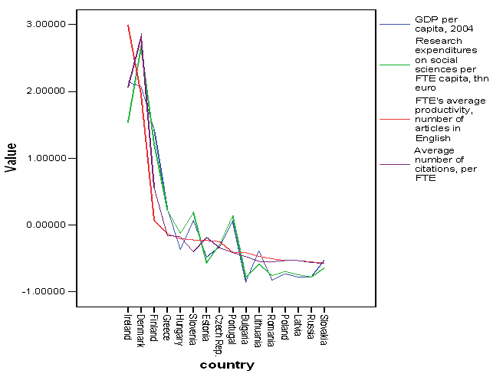
График 10 отображает эти зависимости на макроуровне, фиксируя связи между совокупным бюджетом государственных и образовательных учреждений, выделяемым на социально-научные исследования, числом занятых в этой области в полновременном эквиваленте, количеством англоязычных статей и средним числом публикаций. Как и можно было ожидать, связи здесь оказываются более размытыми, поскольку вмешивается еще одна переменная: абсолютный размер страны. Далеко превосходящая по численности населения все остальные страны в выборке Россия имеет исследовательский бюджет, сопоставимый с аналогичными бюджетами Ирландии, Греции, Португалии и Польши, однако она имеет и значительно большее число ученых, так что в пересчете на одного исследователя цифры превращаются в мизерные.
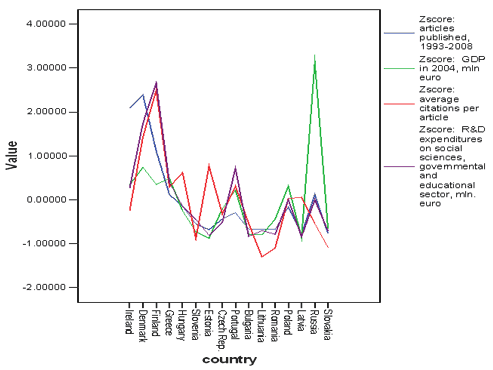
График 11 представляет предыдущие расчеты в новом ракурсе: экономической цене интернациональной видимости. Линии на нем представляют (а) количество цитат, которые дает 1000 евро исследовательских фондов, приходящихся на одного исследователя; (б) количество цитат, которые дает миллион бюджетных затрат на исследования в социальных науках; (в) и (г) — то же самое — для количества публикаций.
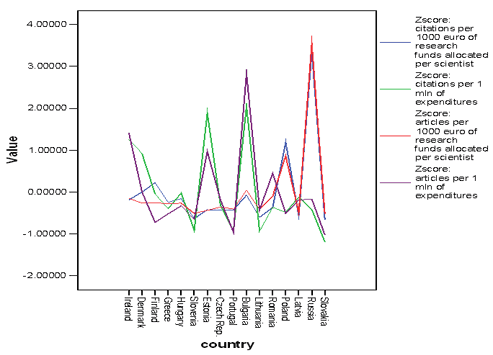
Этот пересчет дает неожиданные результаты. Эффективность одного евро инвестиций в исследования с точки зрения производства интернационально видимых результатов варьируется драматически, и лидерами оказываются совсем не те академические сообщества, которые производят наибольшее число статей и привлекают наибольшее среднее количество цитирований. Дешевле всего государственному бюджету обходятся публикации и цитирования англоязычных ирландских (147 статей и 440 цитирований за миллион евро бюджетных расходов на социальные науки), эстонских (123 и 547) и болгарских (223 и 574) ученых. Финские ученые не поднимаются над средним уровне, и, хотя датские исследователи также показывают неплохие результаты с точки зрения превращения бюджета в цитаты (384 цитаты за миллион евро), здесь их результаты более не выглядят экстраординарными. Еще более неожиданно распределение статей и цитирований в пересчете на средние затраты на одного исследователя. Тут Россия, наконец, оказывается впереди (2831 статья и 1103 цитирования за 1000 евро, потраченных на одного исследователя), за ней с большим отрывом следует Польша (1103 и 391,соответственно), а все остальные страны показывают примерно одинаковые результаты. Ни одна из охваченных исследованием стран (и, по всей видимости, ни одна страна в Европе) не имеет обществоведов, которые показывают столь высокие результаты за такие маленькие деньги. Графики 12 и 13 представляют эти результаты в ином графическом виде.
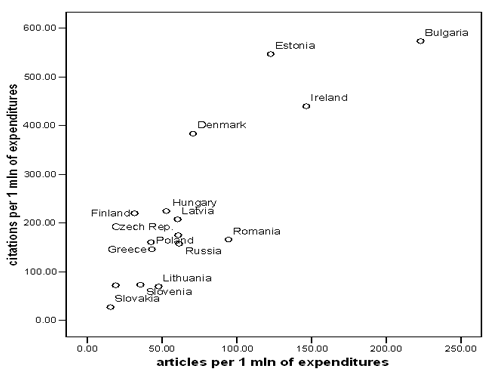
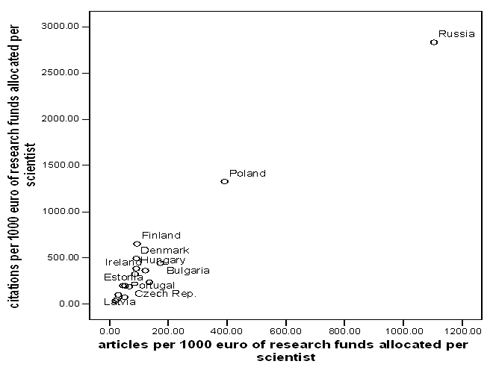
Несколько важных оговорок должны быть сделаны при интерпретации этих данных. Евростат опирается на вопросники, заполняемые чиновниками соответствующих национальных министерств в соответствиями с прилагаемыми инструкциями. Инструкции, однако, определяют немногим более, чем общие принципы, а национальная статистика часто собирается по совершенно иначе заданным характеристикам, и превращение одного столбика цифр в другой оставляет огромное пространство для вынужденной импровизации. В любом случае, в этих данных можно ожидать массу пробелов. Так, российская бухгалтерская отчетность не дает практически никаких возможностей отследить поступление грантовых денег из негосударственных источников, и, в любом случае, сведения о негосударственных академических организациях, зарегистрированных как АНО, скорее всего вообще минуют министерство. Хотя Евросоюз заботится о большей унифицированности работы статистических ведомств на своей территории, близкое знакомство с данным заставляет подозревать существенные пробелы и в его информации. Тем не менее, при всей должной осторожности в обращении с подобными источниками, сам масштаб наблюдающихся различий заставляет нас задаться вопросом: что стоит за этой связью экономического процветания и интернациональной видимости?
Простейшая гипотеза указывает на эффекты интернационального рынка академического труда: видные ученые мигрируют туда, где им предлагается более высокая заработная плата и деньги на исследования, и, как следствие, богатые академические сообщества испытывают приток активно публикующегося и высокоцитируемого персонала. Интернациональная статистика на этот счет отсутствует, однако, на уровне повседневных наблюдений, это объяснение выглядит не слишком убедительным. Оставив в стороне нескольких хорошо известных исключений, таких, как Центрально-Европейский университет в Будапеште, мы обнаружим, что постоянный найм ведущих ученых из англоязычных стран в Восточной Европе — редкость, которая не может объяснить общих тенденций (хотя, кажется, может частично объяснить успех Дании).
Другое объяснение (или несколько связанных объяснений) имеют более общий характер. Некоторые национальные Академии глубже интегрированы в интернациональную науку, чем другие. Их представители постоянно участвуют в совместных предприятиях — студенческих обменах, конференциях, изданиях журналов, сравнительных исследованиях. С первых шагов своих научных карьер они оказываются вовлечены в жизнь науки, говорящей на английском языке — вначале уезжая учиться в англоязычные страны, затем — пользуясь приобретенным контактами и навыками для публикации своих текстов в дружественных изданиях и презентации результатов на организованных их знакомыми конференциях или семинарах. Пользуясь любимой социологами терминологией, социальный капитал стоит за накоплением символического. Можно предложить несколько интерпретаций этой близости, и прежде всего две противоположные — экономическую и культурную. Экономическая гипотеза (частично перекрывающая озвученное прежде предположение о роли интернационального академического рынка труда) указывает на цену поддержания подобной инфраструктуры как на основное объяснение. Культурная интерпретация подчеркивает важность исторической и цивилизационной близости: пытливые умы постоянно путешествовали по Европе в поисках знаний во времена, когда границы современных государств еще только намечались, и это великое движение никогда не прекращалось. Зайдя на шаг далее, мы можем сказать даже, что именно это движение стимулировало, в конечном счете, и сам экономический рост, способствовав распространению по континенту идей, технических изобретений и институтов, обусловивших «подъем Запада». Чем ближе к сердцу Европы, тем успешнее общество в таких европейских изобретениях, как рыночная экономика и современная наука, чем дальше — тем меньшее у него шансов сравняться с теми, кто ближе.
Интернациональная статистика науки, разумеется, не может поставить точку в дебатах о границах европейской цивилизации. Тем не менее, надо сказать, что наличные данные лишь с большими оговорками вписываются в эту картину. С одной стороны, они предполагают, что значительная часть диспропорций в видимости национальных социальных наук, наблюдаемых нами сегодня, берут свое начало в прошлом. Так, сформировав подвыборку из восточноевропейских национальных дисциплинарных сообществ, существовавших до распада Советского блока, и сравнив число поставлявшихся ими в англоязычную научную периодику статей до и после 1993 года, мы обнаружим высокую корреляцию в 0.765, p<0.001). [16] Падение коммунистических режимов Восточной Европы изменило относительные уровни видимость ее социальных наук меньше, чем можно было бы ожидать.
С другой стороны, данные о доле финансирования исследований, получаемой из-за границы, демонстрируют отсутствие связи между экономической интеграцией в систему интернациональной науки и видимостью в ней (График 14).

Важнее всего роль зарубежных источников для стран Балтии (Латвия — 20%, Эстония и Литва — по 14%) и Греции (18%). Из них эстонские обществоведы, как мы видели, являются одной из самых производительных групп в терминах англоязычных публикаций и цитирований, литовские и латвийские — отстающими, а греческие занимают промежуточное положение. Показатель Дании сравнительно высок (10%), а Финляндии — низок (3.5%). Кажется, нет никакой общей тенденции, которую выдавало бы это распределение. Хотя кажется естественным предположить, что более высокая доля зарубежного финансирования национального академического сектора должна стимулировать его представителей интенсивнее обращаться к интернациональной аудитории, этого, очевидно, не происходит. Процентные данные не должны скрывать от нас другой важной стороны этого распределения ресурсов: объем финансирования различен. Три с половиной процента финского исследовательского бюджета во много раз больше двадцати процентов латвийского (приблизительно в 16 раз, если быть точнее). Но эта разница, по всей видимости, является лишь следствием того, что сами зарубежные партнеры значительно более заинтересованы во взаимодействии с финскими коллегами, чем с латвийскими, поскольку в финансовом плане такое сотрудничество имеет больше шансов оказаться взаимовыгодным — не в большей ориентации самих финнов на международную коллаборацию.
Напротив, в случае со студенческими миграциями, данные, предоставляемые ЮНЕСКО, свидетельствуют о том, что их более высокий уровень соответствует более высокой интернациональной видимости страны происхождения. График 15 отражает эту зависимость: чем больше студентов покидает данную страну, чтобы учиться в Великобритании или США, тем выше число поставляемый ею статей (корреляция Спирмена 0.626, p<0.01, коэффициент практически не изменяется, когда мы контролируем влияние размера страны). Зависимость, однако, допускает существенные исключения: так, процент покидающих Финляндию (0.86%) невысок в сравнении с покидающими, скажем, Болгарию (1.4%) или Грецию (3.9%).
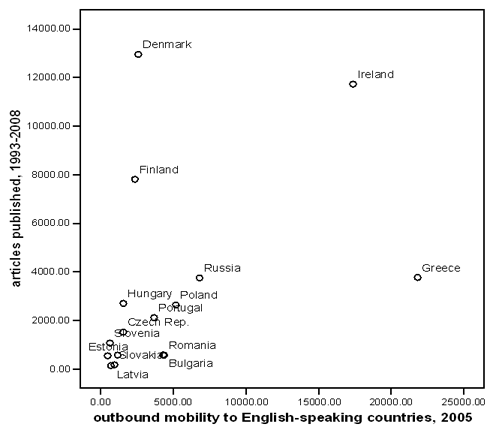
На заключительной фазе исследования множественная пошаговая регрессия были применена для того, чтобы проанализировать вклад каждого из описанных выше факторов. Статистический метод позволял отделять собственное влияние каждой переменной от опосредованного влияния других переменных — скажем, беря пример из предыдущего параграфа, изолировать собственное влияние академической мобильности на количество публикаций от косвенного влияния экономического благополучия страны, которое в свою очередь могло влиять на мобильность. В таблицу включены только факторы, оказывающие статистически значимое самостоятельное влияние.
| Зависимая переменная | Независимые переменные | Направления и сила влияния, изменение R² в финальной модели |
| Число статей | Средней объем средств на исследования в социальных науках, на одного исследователя в полновременном эквиваленте | Сильное положительное (изменение R² = 0.262) |
| «Графичность» дисциплины. | Слабое положительное (изменение R² = 0.064) | |
| Процент студентов из страны, обучающихся в англоязычных странах | Слабое положительное (изменение R² = 0.030) | |
| Количество занятых исследованиями в социальных науках в стране | Очень слабое положительное, на грани статистической значимости (изменение R² = 0.013) | |
| ИТОГ | R² = 0.370 |
При интерпретации этих данных надо иметь в виду, что две переменные — «индекс ирландскости» и «индекс графичности» измеряют тесно связанные свойства, и исчезновение одного из них может быть статистическим артефактом — программный пакет просто относит все их совместное влияние на счет одной.
| Зависимая переменная | Независимые переменные | Направления и сила влияния, изменение R² в финальной модели |
| Среднее число цитат на статью | «Индекс ирландскости» — важность языковых средств для дисциплины | Сильное отрицательное (изменение R² = 0.158) |
| Средней объем средств на исследования в социальных науках, на одного исследователя в полновременном эквиваленте | Слабое положительно (изменение R² = 0.030) | |
| «Графикабельность» дисциплины. | Слабое положительное (изменение R² = 0.029) | |
| ИТОГ | R² = 0.217 |
Здесь, как мы видим, «ирландскость» вытесняет «графичность» — опять же, вероятно, в силу специфики статистической техники. В целом, результаты анализа оставляют желать лучшего, объясняя от порядка одной трети (Таблица 2) до одной пятой (Таблица 3) наблюдаемой вариации. Однако, сравнивая это распределение с цитировавшимся выше анализом предсказательной силы национальных и дисциплинарных средних, мы можем заключить, что основная слабость лежит в «графичности» и «ирландскости», переменных, описывающих различия между дисциплинами. Различия между странами модель улавливает несравненно лучше.
Сделанные до сих пор выводы можно суммировать следующим образом:
Сказав все это, мы вынуждены вернуться к вопросу, ответ на который до сих пор так и не был получен: почему экономическое благосостояние национальной науки настолько существенно для ее видимости? Ни одно из перечисленных выше объяснений того, почему одно национальное дисциплинарное сообщество может иметь преимущества перед другими, не предполагает настолько сильной связи между этими переменными. Ответ на поставленный вопрос очевиден, если мы говорим о капиталоемких специальностях, требующих многомиллионных расходов на экспериментальные установки. Но социальные науки по большей части не нуждаются ни в чем подобном. В чем же тогда дело?
Ожидать ответа на этот вопрос от интернациональной статистики значило бы требовать неоправданно многого. Она подсказывает лишь общее направление, в котором должен находиться ответ, но не сам ответ. Она не предоставляет и не может предоставить никаких сведений о характере распределения поступающих в Академию средств. Все, знакомые с академическим миром, осведомлены о том, что он очень далек от экономического равенства, и, при этом, тема личных доходов в нем является строго табуированной. Исследования экономической стратификации в науке, выходящие за пределы простой констатации ее наличия, на восточноевропейском материале мне не известны. [17] В российском случае на протяжении 90-х наблюдалась тенденция к жесткой сегментации дисциплинарных сообществ по принципу академического рынка, из которого извлекались основные доходы (интернациональная «грантовая экономика», государственные институты высшего образования, рынки заказных исследований и т.д.). Возникающие сегменты часто были практически изолированы друг от друга и развивали собственную систему авторитетов, инфраструктуру, стили письма и поведенческие коды. [18] Сами эти сегменты и в особенности разные группы внутри них принципиально различались по доступным им экономическим ресурсам, и средний уровень расходов на исследования в пересчете на одного исследователя говорил очень мало о том, сколько средств оказывалось в руках отдельных индивидов и небольших групп.
Я рискну, тем не менее, высказать по поводу связи общей институциональной бедности и низкой интернациональной видимости одно предположение, которое возникло исходно при анализе совершенного иного материала: этнографического исследования социальной организации и интеллектуальной динамики разных групп, составляющих петербургскую социологию. [19] При всей несхожести этих групп (и изрядной доле предубеждений, которые их члены имели друг против друга), они обнаруживали одно фундаментальное сходство. Кратковременные инвестиции в поддержание уровня жизни для них оборачивались затрудненностью долговременных инвестиций в получение значимых результатов и создание интеллектуальной репутации.
Их представители, в особенности молодые, были ориентированы на стандарты потребления своих западных коллег, но институциональная среда практически не предлагала им позиций, которые обеспечили бы их соответствующей заработной платой. Вместо этого они могли найти сколько угодно фрагментарных занятостей, каждая из которых приносила какой-то доход — чтение дополнительных лекций, маркетинговые исследования, сбор интервью для чьих-то чужих проектов, переводы и гонорарные публикации, и так далее. Все вместе они обеспечивали вполне приличные прибыли, но за свою цену.
Следующие свойства могут быть описаны как характерные для «бедной науки»:
Если первые два утверждения интуитивно ясны, последнее утверждение требует некоторых пояснений. Логика обстоятельств подталкивает ученых «бедной науки» к тому, чтобы экономить время и усилия на каждой составляющей их труда — только так они могут справиться с невероятным числом своих обязательств. [20] И здесь захлопывается ловушка, скрытая в современных социальных науках. Зазор между «работой-с-любой-формальной-точки-зрения-совершенно-приемлемой» и «первоклассной работой» или даже «работой-которую-хоть-кто-то-удосужится-прочитать» в них очень велик. [21] Во многих субспециальностях невозможно сколько-нибудь точно определить, что отличает хорошую статью от плохой. И та, и другая может представлять собой текст с разбросанными по нему цитатами из 20 интервью, интерпретацию одного образчика медийного дискурса, анализ поведения людей на автобусной остановке или комментарий к теоретической классике. Разница в аромате новизны, оригинальности, азарта, который исходит от одной и которого совершенно лишена другая. Но аромат оригинальности в социальных науках — это, в действительности, запах исследовательского пота. Некоторые статьи скрывают месяцы размышлений и многократные переписывания. [22] Труд, вложенные в них, остается невидим, и само его существование часто отрицается, заменяясь ссылками на «талант» или «воображение» автора. Другие статьи пишутся за 3 дня, и в краткосрочной перспективе их автор, безусловно, выигрывает, так как экономит время для других занятий. В долгосрочной перспективе, однако, ставка на качество часто оправдывает себя — лучшая статья читается и обсуждается, имя ее автора оказывается на устах, новые его работы встречаются с благожелательным интересом, и, в конечном счете, он выигрывает даже в чисто финансовом отношении, получая лучшие позиции или исследовательские проекты. Беда в том, что, в соответствии с классической экономической максимой, ресурсами для самых выгодных долгосрочных инвестиций — таких, как инвестиции в репутацию — обладает только тот, кто уже и так богат.
Если возвращаться к примеру социологии, то то, что известно как «качественные методы» (неформализованные интервью, включенное наблюдение, дискурсивный анализ) имеет здесь явные преимущества перед «количественными методами» (анкетные опросы), поскольку в случае вторых экономия на количестве собранной информации или изучении методов статистического анализа оставляет явные улики. Трудно не заподозрить, что бурный успех первых в России в последние 15 лет имеет какое-то отношение к этому обстоятельству, как и к тому, что опросы — вообще более дорогостоящее предприятие. Дело, однако, не ограничивается методами. Принадлежность к какому-то интеллектуальному или политическому лагерю может выбираться по тому же принципу. Часто освоение соответствующих кодов считается приемлемым оправданием для незнакомства с другими позициями и даже лицензией на полное игнорирование аргументов их представителей — что, конечно, способствует существенной экономии усилий. Мишель Ламон в классической статье цитирует американского философа, обвинявшего Дерриду в том, что он завоевал свою популярность в Новом свете, «дав каждому второкурснику, не прочитавшему ни одного классического текста, возможность критиковать логоцентризм западной философии». [23] Появление некоторых школ (или филиалов западных школ) в российских социальных науках, кажется, обсуловлено действием той же логики.
Парадоксальной особенностью этой организации академического мира является то, что она создает для самих агентов едва ли не большие сложности в мониторинге качества своей деятельности, чем для внешних наблюдателей. Работая бок о бок с людьми, существующими по тем же принципам, что и мы, мы можем бесконечно обмениваться с ними признанием и психологической поддержкой, и никогда не догадаться о том, как малоинтересно то, что делается в этом узком кругу, для посторонних. Нормы академического этикета в сочетании с низкой мобильностью рынка академического труда, типичной для «бедных наук», всячески этому способствуют. Именно поэтому обращение к внешней аудитории часто заканчивается шоком, обвинением последней в предвзятости и непонимании, и в дальнейшем тщательно избегается.
Я никоим образом не хочу сказать, что все описанное происходит только в «бедных» науках. Мы услышим сколько угодно жалоб, аналогичных только что озвученным, которые исходят из самых что ни на есть «богатых» наук. Но, если все сказанное верно, институциональная бедность создает ощутимую разницу в степени — и она вовсе не в пользу менее обеспеченных. Именно ее и демонстрирует интернациональная видимость.
Благодарности
Исследование стало возможным благодаря щедрой поддержке Научного фонда ГУ-ВШЭ (грант № 08-01-0102, «Интернациональный провал постсоветских социальных наук: Сравнение институциональных объяснений»). Мои особые благодарности за советы и плодотворные обсуждения Даниилу Александрову, Татьяне Зименковой, Владимиру Пислякову, а также всем участникам Междисциплинарного семинара Европейского университета 6 марта 2009 года. Все ошибки, разумеется, остаются полностью на моей совести.
Примечания
[1] Разумеется, это описание существенно упрощает картину — каждый ученый знает, что в начале пути к широкому признанию любая революционная теория поддерживается лишь группкой бунтарей, и сам по себе тот факт, что в момент Х в нее верит 5 человек, еще не может ее дисквалифицировать. Но если за моментом Х так и не следует момент Y когда количество ее сторонников увеличивается, репутация теории оказывается подорвана. Элитистская вера в то, что истина и не может быть доступна никому за пределами узкого круга избранных — основная для некоторых религиозных культов и эстетических течений — современной науке абсолютно чужда.
[2] По поводу характера влияния подобной партикуляризации на интернациональную видимость существует два противоположных предположения. Согласно первому из них, она однозначно увеличивает присутствие авторов из не-англоязычной страны в интернациональном пространстве внимания дисциплины. Согласно второму, влияние этого фактора опосредовано типичным разделением труда в данной науке: там, где англоязычные ученые могут предложить своим локальным коллегам собирать для них сырую информацию за финансовое вознаграждение, для последних возникает экономический стимул бесконечно эксплуатировать свою «естественную монополию», оставляя все сложности, связанные с публикацией, и все приносимые ей символические выгоды западным партнерам. Уровень их собственной «видимости» в результате может оказаться ниже, чем у тех, для кого этого соблазна не существует. На материале сотрудничества между российскими и западными учеными эта гипотеза развивается Даниилом Александровым. Ниже читатель может найти некоторые данные, вполне укладывающиеся в нее.
[3] Решение идентифицировать страну, которую представляет ученый, с почтовым адресом является очевидным упрощением картины. Российский автор, стажирующийся или преподающий в качестве приглашенного преподавателя в Кембридже или Беркли, может указать адрес своего временного пребывания, даже если вскоре вернется в Россию — и, фактически, некоторые из ведущих отечественных социологов, чья публикационная активность изучалась специально, так и делали. Наоборот, в данный момент работающий в Восточной Европе англоязычный ученый может указать почтовый адрес принимающего института. Процедура деления ученых по странам в принципе полна условностей — куда нужно отнести американский профессориат Центрально-Европейского университета в Будапеште, многие представители которого так и не освоили венгерский? Надежда здесь может быть возложена только на то, что размер выборки компенсирует единичные вариации, поскольку предложить осмысленный и практически осуществимый алгоритм сортировки на индивидуальном уровне, видимо, невозможно. Еще более проблематичны соавторства. Значительная часть англоязычных статей, написанных восточноевропейскими обществоведами — включая большую часть наиболее цитируемых — представляют собой плод совместных усилий, в которых принимали участие американские или британские ученые. Часто в интернациональных коллективах такого рода складывалось характерное разделение труда: исследователи из постсоциалистических стран собирали «поле», а их западные коллеги писали текст, который принимал лидирующий журнал. Следует ли включать такие статьи? Опять же, основной довод здесь был статистический: можно предполагать, что, в целом, заинтересованность западных ученых в партнерстве с восточноевропейскими была прямо пропорциональна «продвинутости» последних — чем большую часть работы те могли сделать сами, тем легче и выгоднее было взаимодействовать с ними. Фактически, пересчет распределения статей и цитирований по странам выборки без соавторства претерпевало сравнительно малые изменения: количество и среднее число цитирований сокращались, но порядок оставался тем же. Существенные изменения наблюдались, однако, в случае с дисциплинами: некоторые специализации в гораздо большей степени страдали от изъятия совместных предприятий, чем другие. Пример социальной психологии будет рассмотрен ниже. Я благодарен Татьяне Зименковой, которая предложила многие из этих соображений.
[4] Как мы увидим далее, есть все основания относиться к этому индексу с осторожностью: развитие национальных дисциплинарных сообществ происходит под влиянием множества уникальных обстоятельств, и нет оснований считать, что Ирландия была исключением. Тем не менее, ранжирование дисциплин по степени «ирландскости» в целом укладывается в интуитивно ожидаемую картину — самые высокие показатели у истории (9.09) и литературоведения (8.69), самые низкие — у демографии (2.29) и психиатрии (2.37).
[5] Latour, Bruno, Philippe Mauguin and Geneviève Teil. 1992. “A Note on Socio-Technical Graphs.” Social Studies of Science, 22 (1): 33-57; Stubbs, Alan et al. 2000. “Scientific Graphs and the Hierarchy of the Sciences: A Latourian Survey of Inscription Practices.” Social Studies of Science, 30 (1): 73-94
[6] Все данные исследования доступны по запросу, отправленному на адрес msokolov@eu.spb.ru .
[7] Другое возможное объяснение указывает на дискриминацию в пользу своих соотечественников: если все предпочитают цитировать авторов из своей страны, то среднее число цитирований авторов из страны Х будет возрастать пропорционально общему количеству их статей. У меня пока нет систематических данных на этот счет, но на уровне нескольких отдельно анализировавшихся дисциплин, эта гипотеза не выдерживает проверки: роль «патриотичных» цитирований нигде не оказывалась решающей.
[8] Закономерно, что социальная психология — одна из специализаций, показатели цитирований которой наиболее существенно изменяются при исключении соавторства. Интересно, что появление денежных вознаграждений обычно исключает использование символических поощрений такого рода — там, где в ходу большие исследовательские гранты, оплата соавторством практикуется реже.
[9] Эти данные позволяют сделать два практических вывода. Первый состоит в том, что простой подсчет публикаций и цитирований является крайне ненадежной мерой сравнения научных достижений между дисциплинами, или даже между субдисциплинами внутри отдельных дисциплин. Разные формы разделения труда, требования к языковым ресурсам и варьирующиеся периоды «полужизни» публикаций делают идентичные показатели цитирования совершенно несопоставимыми. Второй вывод может заключаться в практической рекомендации относительно того, как с наименьшими затратами увеличить общую интернациональную видимость российской (или какой-то еще) науки. Я не хочу иметь с инструкциями такого рода ничего общего и поэтому не останавливаюсь на этой теме подробнее.
[10] Расхождение коэффициентов для публикаций и среднего цитирования, видимо, обусловлено ролью англоязычных журналов, издаваемых в не-англоязычных странах. Из выборки были исключены издания, публикующие только переводы статей на национальном языке (типа “Russian Politics and Law” и “Russian Education and Society”), но оставлены периодические издания, принимающие не публиковавшиеся ранее англоязычные статьи на основании peer-review, даже если они по факту печатали почти исключительно тексты ученых из данной страны. Как правила, такие издания имели удручающе низкие показатели цитирования, что и сказывалось на средних для соответствующих дисциплинарных сообществ. Сравнительно низкие результаты чешских ученых в целом, кажется, обусловлены тем, что ими поддерживается сразу несколько таких изданий.
[11] Я пытался более систематически анализировать паттерны вариации в отклонении от средних, используя основанные на Хи-статистике методы (анализ корреспонденций), однако они не позволили выделить какие-то общие структуры. Похоже, что здесь мы действительно имеем дело с уникальными конфигурациями обстоятельств. Среди продемонстрировавших наибольшие превышения над ожиданиями по среднему числу цитирований надо отметить польский менеджмент (превышение в 8.4 ссылки при 122 статьях), чешскую социальную психологию (превышение в 9.9 ссылок при 26 статьях), венгерскую психологию и информационную науку (превышение в 4.6 и 4.2 при 257 и 191 статье, соответственно) и румынский менеджмент (5.3 при 22 статьях).
[12] Оценка численности исследователей дана в FTE (full time employment), единицах подсчета, принятых Евростатом. Число FTE в социальных науках для России, по которой эта информация в изданиях Евростата отсутствует, вычислена на основании Гохберг и др. 2006. Индикаторы науки: Статистический сборник. Москва: ГУ-ВШЭ
[13] Данные по численности брались за 2004-2005 годы, а количество публикаций — за весь период с 1993. Другая статистика, собранная Eurostat, однако, подтверждает, что колебания численности исследователей за этот период не превышали 5-7 процентов, так что в некотором приближении ими можно пренебречь.
[14] Я рассчитывал коэффициенты корреляции между численностью населения и размером армии, с одной стороны, и числом публикаций по политической науке и международным отношениям — с другой, а также между размером ВВП и присутствием в экономических журналах (с контролем по ВВП на душу населения). Все корреляции были положительными (порядка 0.3-0.7), однако, незначимыми при данном размере выборок (N = 16). Требуются дополнительные случаи чтобы пролить больше света на положение вещей.
[15] Фактически, в этом пункте, конечно, существуют вариации, которую суммирует другая часть статистики Евростата. Однако различия в доле государственного бюджета, отводимого на науку, полностью скрадываются более существенными различиями в размере самого бюджета.
[16] Были взять социально-научные дисциплины Болгарии, Венгрии, Польши и Румынии, N=72.
[17] И даже на американском материале, значительно более благодатном в силу того, например, что статистика зарплат преподавателей в государственных университетах вывешивается на их сайтах, исследования, учитывающие всевозможные дополнительные источники доходов — гонорары, прикладные исследования, госконтракты, консультации и т.д. — дают только отрывочные данные. В российском случае все обстоит по понятным причинам еще хуже — академический читатель может легко убедиться в этом, попробовав мысленно рассчитать доходы его/ее ближайших коллег и обнаружив, сколько неизвестных найдется в этом уравнении.
[18] Применительно к социологии, их первое описание принадлежит Геннадию Батыгину (Батыгин Г.С. 2005. «Невидимая граница: Грантовая поддержка и реструктурирование научного сообщества в России.» Г.С. Батыгин, Л.А. Козлова и Э. Свидерски. Социальные науки в постсоветской России.» Москва: Академический проект: 323-340). Я позволю себе сослаться также на свое собственное исследование (Погорелов Федор, Соколов Михаил. 2005. «Академические рынки, сегменты профессии и интеллектуальные поколения: Фрагментация петербургской социологии.» Журнал социологии и социальной антропологии, № 2: 76-92).
[19] Подробнее рассматривается в Соколов Михаил. В печати. «Российская социология после 1991 года: Интеллектуальная и институциональная динамика “бедной науки”.» Laboratorium. Журнал социальных исследований, 2009, № 1
[20] Под «невероятным числом» я имею в виду, например, то, что участие в 5-6 исследовательских проектах параллельно или чтение 5-6 курсов лекций по разным предметам, плюс некоторое количество административных обязанностей считалось для членов изучавшегося сообщества нормальной нагрузкой; некоторые брали на себя значительно больше.
[21] Что отражается в хорошо известном факте: процент публикаций в социальных и гуманитарных науках, которые никто никогда не цитирует, значительно выше, чем в естественных, причем их доля тем больше, чем наука гуманитарнее — читатель может найти соответствующие цифры даже в этой статье.
[22] Я не могу не сослаться на Говарда Беккера, социолога, известного своим изящным и непринужденным письмом. Беккер упомянул как-то как о само собой разумеющейся вещи, что полностью переписывает все свои статьи не менее 5-6 раз. Мне известны считанные случаи, когда российские обществоведы по своей воле переписывали бы то, что выползало из их принтера, хотя бы однажды — многие даже не перечитывают. Данные, которые изложены выше, подсказывают, что бездна, отделяющая большинство из нас как авторов, от Беккера, в гораздо меньшей степени возникает из-за разницы в способностях или из-за его морального превосходства, чем из-за разницы в структурных условиях и экономическом контексте.
[23] Lamont, Michele. 1987. How to Become a Dominant French Philosopher: The Case of Jacques Derrida. American Journal of Sociology, 93 (3): 584-622
